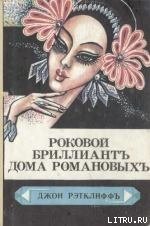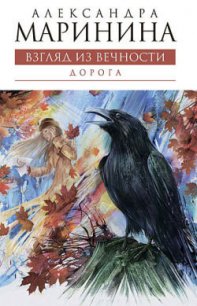Ознакомительная версия. Доступно 26 страниц из 126
Многих смущала необычайная пассивность Николая перед лицом оскорблений: «Царь ничего не чувствовал, он не был ни добрым, ни жестоким; ни веселым, ни угрюмым; у него было не больше чувствительности, чем в некоторых из низших форм жизни». «Человек-устрица», – как позже описал его комендант Евгений Кобылинский [1220]. Что касается Александры, Елизавете Нарышкиной ее разговор казался все более бессвязным и непонятным. Без сомнения, ее, как всегда, мучили постоянные головные боли и головокружения, но Елизавета к тому времени пришла к выводу, что нестабильное психическое состояние Александры стало «патологическим». «Это должно послужить ей оправданием, если дело дойдет до худшего, – надеялась Елизавета, – и, возможно, только это будет ее спасением». Доктор Боткин был согласен с ней: «Сейчас он думает об этом то же, что и я, и, видя, в каком состоянии находится императрица, клянет себя, что не осознал этого раньше» [1221].
В самом дворце многое изменилось. «По широким коридорам, покрытым толстыми мягкими коврами, где раньше бесшумно скользила деловитая тихая прислуга, сейчас шатались толпы солдат в расстегнутых шинелях, в грязных сапогах, в сдвинутых набекрень шапках, небритые, часто пьяные, всегда шумные» [1222]. Семье было строго запрещено принимать посетителей (хотя людям из их окружения порой дозволялось видеться со своими родственниками). Пользоваться телефоном и телеграфом было запрещено, семье было приказано всегда говорить только на русском. Переписку проверял Коцебу, который служил когда-то в уланском полку Александры. Он сочувствовал им и часто пропускал их письма без всякой официальной проверки. Но вскоре его заменили, и письма стали проверять даже на невидимые чернила [1223]. Семье дозволялись религиозные службы по воскресеньям и большим церковным праздникам, которые вел отец Беляев из Федоровского собора. Их проводили в походной церкви, установленной в углу за ширмой в одной из комнат наверху [1224].
Была уже середина марта, но Мария была еще очень больна, а у Анастасии так сильно болели уши, что ей пришлось проколоть барабанные перепонки, чтобы снизить давление на них [1225]. Позже, 15 марта, у Анастасии началась вторичная инфекция – плеврит, причем в тот же день, когда температура у Марии поднялась до 40,6 °С. Обе девочки страдали от изматывающих приступов кашля [1226]. В письме Рите Хитрово Татьяна пишет, что Анастасия не могла даже есть, «потому что это все тут же выходило обратно». Обе сестры, по ее словам, были «очень терпеливы и лежали спокойно. Анастасия по-прежнему не слышит, и нужно кричать, чтобы она могла расслышать, что ей говорят». У самой Татьяны слух уже восстанавливался, хоть правое ухо еще иногда болело. О многом она не могла написать: «Помните, что наши письма просматриваются» [1227].
18 марта состояние Марии было таким тяжелым, что Александра отправила Анне Вырубовой встревоженную записочку в страхе, что девочка умирает. Анастасия тоже была «в критическом состоянии, легкие и уши воспалены». «Только кислород поддерживал в детях жизнь», его давал им врач, который добровольно приехал из Петрограда ухаживать за ними [1228]. И только 20 марта температура у Анастасии и Марии наконец начала падать. Худшее миновало, к большому облегчению родителей, хотя дети были еще очень слабы и много спали [1229]. Алексей тоже поправлялся, а Татьяне, самой крепкой из детей, стало намного лучше. Но Ольга все еще, по-видимому, чувствовала себя плохо.
Во дворце был новый комендант – Павел Коровиченко, которого представил семье Керенский 21 марта, приехав с инспекцией. Перед отъездом в тот день Керенский объявил, что Анну Вырубову забирают. Тесные взаимоотношения, которые она когда-то поддерживала с Распутиным, клеймом ложились на нее сейчас и влекли за собой обвинения в ее причастности к «политическим заговорам» против нового режима [1230]. Было высказано мнение, что ее присутствие во дворце вело лишь к разжиганию революционной ненависти к царской семье.
Потерять Анну было катастрофой для эмоционально опустошенной Александры, но еще хуже было решение Керенского о том, что другой ее близкой подруге, Лили Ден, тоже следует покинуть дворец. Когда Лили уезжала, Александра повесила ей на шею маленькую иконку, благословляя ее, а Татьяна бросилась к ней с небольшой, отделанной кожей рамкой с фотографиями ее родителей – с ее собственной тумбочки. «Раз Керенский намерен забрать вас от нас, у вас должны быть по крайней мере образы Папа и Мама в утешение», – сказала она, а затем повернулась к Анне и попросила ее что-нибудь «на память» о ней. Анна отдала ей единственное, что у нее было, – свое обручальное кольцо [1231].
Лили была в своей форме сестры милосердия, когда их с Анной вели к ожидающим их машинам. Когда они уходили, Александра и Ольга казались спокойными и бесстрастными, но Татьяна не скрывала слез – «та девушка, которая вошла в историю как «гордая и сдержанная», на этот раз, как вспоминала Лили, «не пря[тала] своего горя». Обе женщины тяжело переживали, что были так несправедливо и насильственно вывезены после стольких лет верной службы в семье. Анна, которая была все еще слаба после перенесенной кори и травм, полученных ею в аварии, едва могла ходить, даже с помощью костылей. Когда их машина отъезжала, за пеленой дождя Анна могла разглядеть только «группу одетых в белое фигур, столпившихся у окон детской», наблюдавших, как они уезжают.
Из Царского Села двух женщин доставили во Дворец правосудия в Петрограде. Два дня они провели в промерзшей комнате почти без пищи, после этого Лили было разрешено вернуться домой к своему больному сыну Тити [1232]. Анну же поместили в печально известный Трубецкой бастион Петропавловской крепости, где ее допрашивали и продержали в заключении до июля.
Когда все дети выздоровели, семья по-прежнему еще лелеяла надежду, что им будет позволено уехать во временную ссылку. 23 марта Николай отметил в своем дневнике, что он пересматривает свои книги и бумаги, упаковывая все, что ему хотелось бы взять с собой, «если мы поедем в Англию» [1233]. Но наступил пост, а никаких известий так и не было. Отцу Беляеву разрешили остаться в Александровском дворце на время служб, правда, за ним все время внимательно наблюдали очень настороженные охранники. В субботу 25 марта Анастасия впервые встала и обедала вместе с семьей. На следующее утро было Вербное воскресенье. В тот день она написала, вероятно, свое первое письмо с начала ее болезни. Она написала его той, кто была ближе всех к ее любимому офицеру – сестре Виктора Зборовского, Кате.
Катя, как и ее сестры Римма и Ксения, во время войны была сестрой милосердия в Федоровском городке [1234]. Тремя годами старше Анастасии, она иногда приезжала из Санкт-Петербурга играть с ней, когда они были помладше, и девочки стали близкими подругами благодаря их общей привязанности к ее брату Виктору. Во время войны все четыре сестры Романовы часто посылали подарки своим любимцам из конвоя, в первую очередь вязаные носки и перчатки, которые могли пригодиться им на фронте. Они также хранили у себя фотографии Вити (Виктора), Шурика (Александра Шведова) и Скворчика (Михаила Скворцова), которые были сделаны на чаепитии у Анны Вырубовой. После того как они были отрезаны от мира в Александровском дворце, девушки отчаянно пытались поддерживать связь с конвоем, и Катя стала их курьером: ее пропускали во дворец и разрешали приносить и забирать письма [1235].