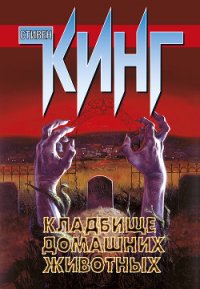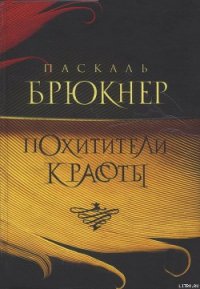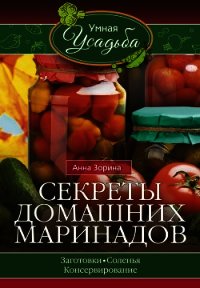Триумф домашних тапочек. Об отречении от мира - Брюкнер Паскаль
Въехать в новую квартиру значит, прежде всего, наложить на нее отпечаток, внести что-то свое, расколдовать ее, прежде безликую, изгнать духи предыдущих владельцев. Привидения, как мы знаем из готических романов, водятся в каждом доме, и, чтобы сделать его полностью своим, надо развеять чары. Этот обряд приручения необходим даже для совершенно одинаковых, неотличимых друг от друга гостиничных номеров. Любое жилье обладает своей атмосферой, которая или притягивает, или отталкивает. А дальше предстоит нелегкая задача «раскутаться», как сказал Андре Жид применительно к Монтеню. Однако завоевание того или иного помещения может обернуться проклятием. Это напоминает историю знаменитого феминистского лозунга шестидесятых годов: «Мое тело принадлежит мне». Всё верно, ничего не возразишь. Но, если мое тело принадлежит только мне, если никому больше оно не нужно, никто не хочет рассмотреть его, похвалить, разделить со мной эту эксклюзивную собственность, она становится мне в тягость. Анни Эрно, рассказывая, как однажды в большом парижском универмаге ее, 43-летнюю женщину, пытался обокрасть карманник, в чьей небрежной наглости ей даже померещилось какое-то обаяние, призналась, что больше всего почувствовала себя униженной не от самой кражи, а от другого: «…столько мастерства, ловкости, вожделения — и всё ради моей сумочки, а не меня самой» [41]. «Мой дом!» — но если я в нем один, если в нем нет ни гостей, ни друзей, ни детей, выходит, в этих четырех стенах нет ничего, кроме моего сиротства. Святилище превращается в узилище. Я на каждом шагу натыкаюсь на самого себя. Когда во время пандемии нас приговорили оставаться внутри своих домов, это было ужасно мучительно, особенно для стариков и для запертых на карантине. Без внешней жизни нет и внутренней, само понятие «внутри» теряет смысл, становится чем-то плоским, не имеющим объема и изнанки. Если прерывается постоянное снование туда и обратно, наружу и внутрь, то пересыхают каналы, по которым в нас проникал ток живого человеческого общения, чудесного удивления. Физическое заточение оказалось, прежде всего, заточением моральным.
В последние годы американские студенческие кампусы, средоточие всех модных патологий, породили явление, которое можно назвать своеобразным буллингом. Женщины или представители разных меньшинств испытывают потребность общаться друг с другом только в зонах безопасности, в «safe spaces» [42], закрытых для посторонних. Никаких вылазок, никакого расширения кругозора, отныне надлежит заботиться лишь о самозащите. Малейший намек на пережитые травмы, на имевшие место в прошлом рабство, эксплуатацию, мачизм повергает хрупкие молодые души в отчаяние. Их надо нежить в тепле, не дай бог, простудятся на свежем воздухе! Точно так же общинная замкнутость, на которую политики делают электоральную ставку, способствует тому, чтобы люди общались только с членами своего клана, своей конфессии, своей этнической группы, избегая таким образом всякой возможности столкнуться с чужими нравами и обычаями. Cхожим образом «безмятежные города» [43], за которые ратуют многие мэры в Европе, рискуют превратиться из крупных агломераций в некрополи, стерильные пространства: чтобы быть привлекательным, большой город должен быть трепетным, оживленным. Комната или дом могут служить легкими, если сообщаются с наружным воздухом, только тогда они могут расширяться и обеспечивать кровообращение. Если двери и окна задраены, легкие дышат спертым воздухом и атрофируются. Так и появляются патологии, какие мы видим сейчас у тех украинцев, кого называют «люди-кусты», — они корнями вросли в свое жилье и даже посреди войны отказываются его покидать. Надо бы приучать себя так сказать, к «метафизике приоткрытости» (Гастон Башляр) — она всегда подразумевает возможность какой-то другой жизни, какой-то благотворной случайности. Жить — значит постоянно жить на пороге, на паперти, так что всегда есть возможность уйти и вернуться. Дом, квартира расширяют наше внутреннее «я», когда сообщаются с окрестностью: кварталом, улицей, деревней. Тогда они как околица, как око или ухо открыты тому, что находится вне их самих, открыты новым поворотам судьбы. Образ «комнаты-мира» (Эмманюэль Кочча) — скорее всего, утопия, обман: ни один, даже самый роскошный дом не может стать планетой, не может ее заменить по той простой причине, что там нет других людей [44]. И наоборот, мы знаем, что, по выражению Сюпервьеля (он сказал это об аргентинской пампе), «когда пространства слишком много, мы задыхаемся еще сильнее, чем если бы его было мало». Степные или океанские просторы, смыкающиеся с «недвижным горизонтом», тоже могут стать тюрьмой. Безграничная ширь угнетает так же, как узкий застенок. В России узники заключены в бесконечное пространство, ГУЛАГ страшен огромной протяженностью не меньше, чем жестокостью тюремщиков.
Ну а призыв вернуться в сельскую идиллию — общее место в литературе, начиная с XVIII века, с тех пор как Руссо уполномочил Природу исправить вред, причиненный культурой. Вспомним хотя бы, как Бувар, получив скромное наследство, воскликнул: «Мы удалимся в деревню!», — и они с Пекюше перебрали все провинции в поисках, где бы обосноваться, пока не остановились на Нормандии. Там друзья заделались земледельцами, столь же старательными, сколь некомпетентными [45]. В тоталитарных режимах — Мао Цзедуна или красных кхмеров — ссылка на сельскохозяйственные работы была ужасным наказанием, так перевоспитывали людей, не желавших наслаждаться коммунистическим раем. Природа, призванная морально возрождать нового человека, самых хрупких убивает. У нас, в демократических странах, уход в зеленые кущи не столь радикален: это скорее шаг в сторону, подальше от мегаполисов, — мягкая альтернатива, не требующая ниспровержения установившегося порядка вещей. Этакий затвор вовне. Люди вырываются из шумных городов, погружаются в спокойную жизнь, в охотку занимаются садом-огородом, выгораживают для себя убежище на черный день. Но сад — это кокон со свежим воздухом, который заточает вас, как и любой другой, и к тому же может наскучить. Еще в 1880 году Жорис-Карл Гюисманс развеял миф об идиллической загородной жизни в романе «У пристани»: супруги-парижане, утомленные городской жизнью, нашли пристанище в поместье в местечке Бри, по соседству с кузенами-крестьянами. Но деревенская жизнь оказывается неприглядной: то льют дожди, то клещи донимают, а соседи — ушлые мерзавцы. В городских домах тоже бывают садики-огородики, внутренние, растут себе под лампами дневного света фасоль да редиска в гостиной, фруктовые деревца на террасе, — целое карманное агрохозяйство. Свой дом — империя, которая аннексирует и бесцеремонно поглощает все, что вовне. Это напоминает башни из фантастических романов, где на разных этажах размещены все ландшафты мира: саванна, пустыня, джунгли, леса, — все простирается не вширь, а ввысь.
Глава 9. Царство сна. Гипнос и Танатос
Колыбель и могила, уютное гнездо забвения и покоя, обитель всех начинаний и всех отрешений, постель — то место, где по необходимости временно прекращаются дневные труды, отменяются нормы приличия. Сон, как и смерть, уравнивает все сословия: спят как король, так и нищий, только для первого сон — величественный отдых, для второго — забвение тягостной жизни. «Спать, только спать — вот единственное мое желание. Мерзкое и недостойное, но искреннее» (Бодлер) [46]. Сон — это регулярный провал в бездну, малая смерть, которая, в отличие от большой, не пожирает нас, а восстанавливает. Мы плотно закутываемся в сон, как в другую кожу, и ищем в нем блаженного отдохновения. «Проводя в постели половину своей жизни, мы забываем несчастья, которые приключились с нами в течение другой половины», — говорил в конце XVIII века Ксавье де Местр. В то время еще существовал обычай укладывать случайных гостей на семейное ложе. А в 1976 году фотограф Софи Каль предлагала друзьям и незнакомым людям поспать в ее постели, чтобы их там фотографировать. Ложе снова становится жизненным пространством, где можно сообща с другими затевать что-нибудь особенное. Кровать, предмет интимного назначения, может выполнять социальную функцию, превратившись в место, где принимают гостей, завтракают, обедают и ужинают, она способна заменить стол, стул и кафедру. Помнится, Джон Леннон и Йоко Оно 25 марта 1969 года, протестуя против войны во Вьетнаме, принимали журналистов со всего мира и заявляли о своей пацифистской позиции в амстердамском отеле «Хилтон», сидя в постели. Постель была для них символом согласия, пьедесталом, трибуной. Cпать с кем-нибудь в одной постели — это больше, чем заниматься любовью, это прелюдия к полному взаимному доверию, полному слиянию.
Похожие книги на "Триумф домашних тапочек. Об отречении от мира", Брюкнер Паскаль
Брюкнер Паскаль читать все книги автора по порядку
Брюкнер Паскаль - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.