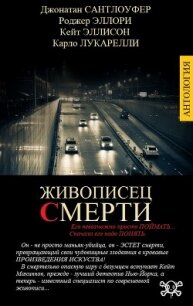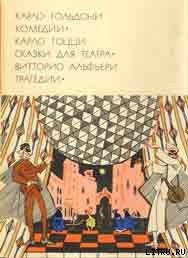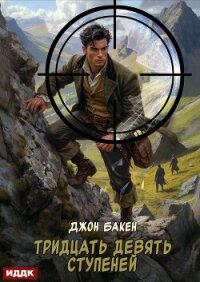Праведник мира. История о тихом подвиге Второй мировой - Греппи Карло
Привыкшие всегда поступать по-своему, суровые работяги, которые не стеснялись в выражениях и никогда не лезли за словом в карман, вдруг оказались там, где не допускалось свободомыслие и уж тем более открытое сопротивление.
Было бы наивно ожидать бурного протеста от Лоренцо или любого другого рабочего. Держать язык за зубами, не давать волю рукам и трудиться, опустив взгляд, для них было единственной возможностью выжить — в противном случае с края пропасти они рисковали попасть в самое пекло. Подобная опасность угрожала и жившим неподалеку от Аушвица гражданским. И все же героические поступки изредка совершались.
Польский крестьянин Войцек Басик [394] из горной деревни Корбелов в 70 километрах от Моновица встретил сбежавшего из лагеря чехословацкого еврея Роберта Вулфа на железнодорожной станции. Басик укрыл его в своей телеге и привез домой. За одно это полагался арест и пытки в гестапо, но Войцек прятал беглеца в амбаре еще семь месяцев. Чехословацкое правительство наградило Басика в 1964 году, а в 1993-м [395] он удостоился звания «Праведник народов мира». Вулф бежал в середине июля — примерно через месяц после встречи Лоренцо и Примо.
О побегах и Сопротивлении быстро становилось известно, но возможность противодействия — и вольняшек, и гражданского населения, и уж тем более рабов и рабов рабов — практически равнялась нулю. И все же протесты случались. Наиболее известный — восстание последних 70 тысяч евреев в гетто Варшавы в апреле 1943 года [396], после того как нацисты уничтожили почти полмиллиона загнанных туда человек.
Регулярные восстания случались даже в местах, специально предназначенных для уничтожения: в Треблинке и Собиборе — 2 августа и 14 октября 1943 года, в Биркенау (в семи километрах от Моновица) — 7 октября 1944 года. Зная о неминуемом конце, даже Sonderkommando [397] с великой решимостью сражались с палачами [398].
Происходили сотни побегов. Именно благодаря беглецам просочились первые сведения об ужасе, творившемся в концлагерях, подчеркивает Петр Цивински, директор Государственного музея Аушвиц-Биркенау.
Однако у нацистов было два мощных союзника — надежда, которая всегда оставалась у депортированных, и их семьи. В истории Холокоста, как замечает Цивински, восстания «всегда поднимались в ситуациях, когда семьи уже не оставалось и люди рисковали лишь собственной жизнью». В остальных случаях все хотели быть с родными до самого конца, «поддерживая старых и немощных родителей», успокаивая детей, помогая им раздеться и поставить рядком ботиночки.
Немного было тех, у кого оставались силы и возможность «сопротивляться, объединяться, бежать или сражаться. Целые семьи были убиты вместе» [399].
И об этом нельзя забывать.
Стоит также напомнить о десятках тысяч евреев, входивших в европейское Сопротивление. Леви посвятил им роман «Если не сейчас, то когда?». Подпольные организации действовали во множестве стран — от Восточной Европы до северных берегов Средиземноморья [400].
В Беларуси братьям Бельским [401] удалось создать не просто партизанский отряд, а целую коммуну — они помогали друг другу, вместе боролись против врагов и спасли почти 1200 человек. История показана в фильме «Вызов» [402] режиссера Эдварда Цвика по книге Нехамы Тек «Непокоренные: партизаны Бельские» (Defiance: The Bielski Partisans) [403]. Красной нитью через фильм проходит тема вызова, который братья бросили «лавине», поглощавшей все на своем пути, — и победе в неравной борьбе со злом.
Еще одна книга Нехамы Тек о спасении евреев в оккупированной Польше — «Когда свет пронзил мрак» (When Light Pierced the Darkness). Можно ли пробиться сквозь тьму [404] и подарить современникам луч света? Какова цена человеческого выбора — стоит ли помогать, если все попытки обречены на неудачу?
Вряд ли Лоренцо задавался подобными вопросами, когда встретил раба № 174 517. Всего-навсего простой трудяга, один из миллионов, разбросанных судьбой по погруженной в мрак Европе. Он и предположить не мог, что ему суждено остаться светом, отраженным пером тщедушного доходяги. На то, что он выживет, в остерии «Пигер» никто не поставил бы и полпинты красного. Однако ясно, что Лоренцо, не привыкший терпеть над собой никакую власть, оттуда, с самого низа, сумел разглядеть и понять суть «человеческого роя», который Леви потом опишет в книге «Человек ли это?».
Тех, о ком здесь рассказано, нельзя назвать людьми. Их человечность погребена ими самими или другими под унижениями, нанесенными им и нанесенными ими. Как бы парадоксально это ни прозвучало, но всех, стоящих на разных ступенях созданной немцами уродливой иерархической лестницы, — и злобных тупых эсэсовцев, и капо, и политических с уголовниками, и придурков всех рангов, и отупевших забитых хефтлингов — объединяло одно: внутренняя опустошенность [405], [406].
Оказавшись в царстве «привилегий и неравенства» [407], Лоренцо, по словам Леви, ощутил «стыд мировой» [408], [409] и «стыд быть человеком» [410]. Это было вызвано пониманием, что он сделан из того же теста и что человеческая сущность способна быть любой, даже самой ужасной и подлой [411]. Потому что в той или иной степени в уничтожении участвовал каждый.
Не знаю, понимал ли это Лоренцо в то лето — вряд ли он обсуждал с кем-нибудь что-то, кроме бытовых вопросов. Но он услышал немую мольбу о помощи. Он сам недоедал из-за нищенской оплаты (каменщикам платили 76 лагерных пфеннингов [412] в час; чернорабочим — от 56 до 62) [413]. Чтобы приглушить чувство голода, которое не проходило даже во время еды [414], приходилось красть в полях остатки урожая.
С вольнонаемными поначалу обращались хорошо, но после «предательства» Италии в 1943 году их положение резко ухудшилось, пишет Сеткевич [415]. Однако есть документальные свидетельства: итальянские работники и до того жили впроголодь. Так, каменщик Бусиккья был «истощенным, анемичным, с выступающими лопатками, обхватом грудной клетки в 72 сантиметра» и «нуждался в восстановлении». Такую медицинскую справку составили в тюрьме города Тревизо 9 июня 1942 года [416]. Это подтверждает: «вольнонаемные» тоже жили в тяжелых условиях, хотя и не были обречены на голодную смерть.
Лоренцо не колебался. Через два или три дня после первой встречи в июне 1944 он пришел на работу и молча протянул Примо алюминиевый котелок, с которым не расставался с армейских времен. Внутри был суп: в жиже плавали колбасные шкурки, а на дне лежали сливовые косточки [417].
Похожие книги на "Праведник мира. История о тихом подвиге Второй мировой", Греппи Карло
Греппи Карло читать все книги автора по порядку
Греппи Карло - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.