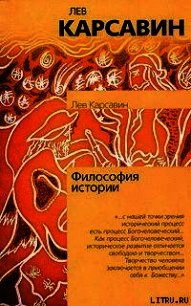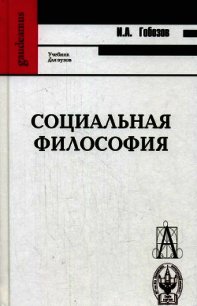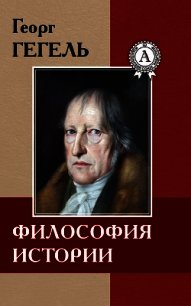«Большевизм ликвидировал частную жизнь, – пишет В. Беньямин, посетивший Москву в конце 20-х гг. – Администрация, политическая жизнь, пресса настолько всемогущи, что для интересов, с ними не связанных, просто нет времени. Нет и места. Квартиры, в которых прежде в пяти-восьми комнатах жила одна семья, вмещают теперь до восьми семей. Через наружную дверь такой квартиры попадаешь в маленький город. А чаще на бивак. Уже в коридоре можно натолкнуться на кровати. В четырех стенах люди только остановились на время, и скромная обстановка по большей части представляет собой останки мелкобуржуазного имущества, производящего еще более удручающее впечатление, потому что меблировка такая скудная… Люди выносят существование в этих квартирах, потому что своим образом жизни они отчуждены от него. Они проводят время в конторе, в клубе, на улице. Здесь же расположены только тылы мобильной армии чиновников. Занавески и перегородки, часто лишь до половины высоты комнаты, призваны увеличить число помещений… Каждое отклонение от предписанных норм наталкивается на необозримый бюрократический аппарат и на непомерные расходы… Человек, не состоящий в соответствующих органах, может лишиться всего и умереть в лишениях… Новые русские называют социальную среду единственным надежным воспитателем» [803].
Русские художники 30-х гг. спустя полвека вспоминали об этом времени: «Были и коллективизация, и голод, и Гулаг. Но была и увлеченность, светлое, радостное восприятие жизни, великая вера и надежда. Даже у тех, кто пострадал, не было озлобленности и мести. Не были утрачены еще иллюзии и искренняя вера в их осуществимость. Конечно, это был спектакль: „Демагогия, возведенная в степень чувства“ (М. Светлов)» [804].
В 1932 гг. в Москве проходила Международная конференция по психотехнике, одно из последних международных научных мероприятий, устраивавшихся в СССР до войны. Наблюдая жизнь Москвы, многие участники конференции задавались вопросом, не приводят ли такие колоссальные социальные сдвиги к изменениям в психологии общества, не наблюдается ли угнетенного, подавленного настроения у большинства людей, и приходили к выводу, что, наоборот, настроение в основном бодрое и даже «болезненно-повышенное» [805]. «Это так, – замечают современные авторы, – но любой психиатр скажет, что уверенность в том, что „нам нет преград ни в море, ни на суше“ и убеждение, что мы со всех сторон окружены врагами, – это две фазы маниакально-депрессивного психоза» [806]. Социализм не является, конечно, болезнью общества, точно так же, как не является он великим его обманом. «Такое грандиозное движение, как социализм, в принципе не может быть построено на обмане. При всем изобилии находящихся на поверхности демагогических приемов, в глубине такие движения бывают честными, они прокламируют свои основные принципы явно – для всех, кроме тех, кто сознательно старается их не слышать» [807].
Люди социалистического общества убеждены, что они сделали правильный выбор, и если не их самих, то их детей и внуков ждет прекрасное будущее [808]. Поскольку Россия – первая страна, строящая социализм и преодолевающая бешеное сопротивление врагов, строители социализма особенно горды своим выбором и готовы приложить все силы для реализации своей мечты и своих планов. Даже позднее, в период разложения коммунизма люди вели себя так, как если бы им выпала большая честь не просто жить, а осуществлять великое историческое мероприятие [809]. Жизнь действительно была похожа на спектакль, в котором каждый выступал не от себя, а исполнял определенную, социально важную роль. Но это исполнение было искренним, в нем отсутствовало притворство и была вера в нужность такого спектакля для решения главной задачи – построения нового общества.
Особенно отчетливо это проявлялось в показательных процессах. «Когда Сталин говорил, что такого-то надо арестовать, – вспоминал Хрущев, – то следовало принимать на веру, что это „враг народа“. А банда Берии, хозяйничавшая в органах безопасности, из кожи лезла вон, чтобы доказать виновность арестованных лиц, правильность сфабрикованных материалов. А какие доказательства пускались в ход? Признания арестованных. И следователи добывали эти „признания“. Но как можно получить от человека признание в преступлениях, которых он никогда не совершал? Только одним способом – применением физических методов воздействия, путем истязаний, лишения сознания, лишения рассудка, лишения человеческого достоинства. Так добывались мнимые „признания“ [810].
Следователи знали, что обвинения и признания полностью выдуманы. Они не могли верить тому, что внешне принимали всерьез. Признававшиеся знали, что следователи не верят и не могут верить им. Тот, кто режиссировал московскими процессами, не мог не знать, что именно он сам приказал создать этот неправдоподобный мир. И тем не менее все удивлялись подлинности этого фиктивного мира. Полностью никто не был введен в заблуждение, но никто не говорил во всеуслышание, что это ложь. «И что еще удивительнее, – пишет Р. Арон, – этот окрашенный смертью мир не просто омерзителен или гнусен. В нем было нечто притягательное. Он оказывал гипнотическое воздействие, потому что все имело там определенное значение, ничто не происходило по воле случая. Глубинные силы истории вступали во взаимодействие с классовыми конфликтами и заговорами отдельных лиц. Гегелевская диалектика порождала полицейский кошмар, и каждый пытался разобраться в причинах того, что творилось в этом трагическом балагане» [811].
Суть дела была не в особенностях психологии Сталина и не в его психической болезни. Новому коммунистическому обществу для его душевного здоровья нужна была постоянная погоня за врагами и их суровое наказание. И оно все время отыскивало этих врагов или выдумывало их. Безжалостная расправа над ними с большим удовлетворением воспринималась обществом.
В средние века, очевидно, не было ни сатаны, ни его агентов – вездесущих чертей; не могло быть также людей, попавших под их влияние или поступивших к ним па службу. Тем не менее такие люди все время находились. Они подвергались суду, признавались в своих прегрешениях и сурово наказывались.
Если коллективистическому обществу нужен враг, причем не только внешний, но и внутренний, – а враг ему нужен так же, как нужна ему глобальная цель, – оно всегда найдет его и подвергнет такому суду, в ходе которого враг сам признает свои коварные замыслы. Спектакли с процессами над врагами воспринимались как чрезвычайно реалистические, потому что они отвечали внутреннему убеждению тоталитарного общества в существовании многочисленных его врагов и его постоянной жажде сурового возмездия им.
В XX в. в мирное время в разных государствах мира было уничтожено, как указывает шведский исследователь П. Альмарк в книге «Открытая рана», 170 миллионов человек.
Это чуть ли не в четыре раза больше, чем унесли все войны этого века. 110 миллионов истребленных, или примерно две трети, приходится на страны коммунистической ориентации.
В СССР в 1917—1987 гг. были уничтожены 62 миллиона человек, в коммунистическом Китае (1949—1987) – 35 миллионов, в Германии (1933—1945) – 21 миллион, в Камбодже – 2,2 миллиона, в Северном Вьетнаме и в Северной Корее – по 1,6 миллиона, в Югославии – 1 миллион, в Эфиопии – 725 тысяч, в Румынии – 435 тысяч, в Мозамбике – 198 тысяч и т. д. Всего в 23 странах так называемого социалистического содружества было ликвидировано 110 286 миллиона человек. Список руководителей стран, персонально ответственных за уничтожение людей, возглавляет Сталин. На счету его режима – 42,6 миллиона человек. За Сталиным следуют Мао Цзэдун – 37,8 миллиона (начиная с 1923 г., т. е. задолго до создания КНР), Гитлер – 20,9 миллиона, Ленин – 4 миллиона, Пол Пот – 2,4 миллиона. «Многих граждан, – пишет Альмарк о Советском Союзе, – убивали потому, что они принадлежали не к тому классу. Это были (или должны были быть) буржуазия, аристократия, кулачество. Другие пострадали потому, что относились к плохой нации или расе – это украинцы, черноморские греки, немцы Поволжья, третьи – за плохие политические „фракции“ – троцкисты, меньшевики и т. д. А еще были сыновья или дочери, жены или мужья, матери или отцы тех, кого большевики в чем-то обвиняли…» [812].