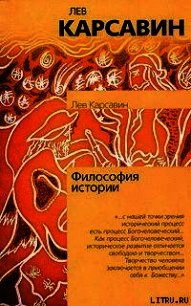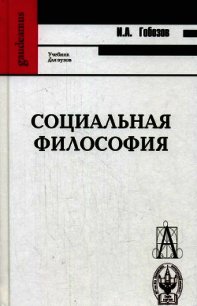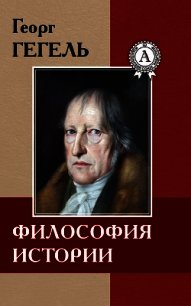«Из архивных документов КГБ стало известно то, как проходила процедура расстрела… Арестованных вызывали в отдельную комнатку и раздевали до белья. Потом руки и ноги связывали веревками, рот затыкали кляпом. Несчастных людей укладывали друг на друга, как дрова, в грузовик и накрывали брезентом. Сверху усаживались сотрудники НКВД. После этого заключенных привозили на место и приводили приговор в исполнение… В некоторых черепах… было по два пулевых отверстия. Из тех же архивов известно, что порой всего двум „исполнителям“ приходилось за ночь расстреливать до четырехсот человек. Палачи выдерживали, а оружие нет – плавились стволы, менялась траектория пули. Люди не умирали после первого выстрела, и их приходилось добивать вторым, контрольным…» (Лория Е. Вход коммунистам и скоту запрещен // Новые известия. 1997. 5 ноябр.).
Люди, строившие социализм, были убеждены не только в правильности, но и в единственности своего выбора. Они акцентировали внимание на тех явлениях, которые поддерживали этот выбор и вытесняли из сознания все, что плохо согласовалось с ним. Провалы, возникавшие из-за того, что они отказывались видеть многие вещи вокруг себя, они заполняли вымыслами так, чтобы получалась связная картина. Эти вымыслы навязывались идеологией. Родители, школа, газеты и кино, а потом и телевидение с самого детства обрушивали на людей простые объяснительные максимы, и они настолько овладевали их умами, что казались результатом их самостоятельного мышления или наблюдения: у нас передовая социалистическая система; она выражает волю людей; она опирается на марксизм-ленинизм – единственно верное учение об обществе; у нас мудрые руководители, работающие на благо своего народа и всего человечества; социалистическое стремление к успеху совершенно отлично от капиталистической устремленности к выгоде; уважение к собственности – это уважение к социалистической, общенародной собственности, никак не похожей на капиталистическую частную собственность, и т. п. Наиболее сильный мотив для вытеснения, подчеркивает Э. Фромм, – это боязнь изоляции и остракизма [813].
В 30–40-е и даже 50-е гг. в Советском Союзе не было людей, не веривших, что в их стране построен социализм – самая прогрессивная форма человеческого общества, и задача заключается в том, чтобы постепенно переходить к строительству полного коммунизма. Проект построения совершенного общества представлялся настолько замечательным, что казались ненужными никакие утопические эксперименты и сама научная фантастика [814]. Даже звучавшая иногда на бытовом уровне и вполголоса критика отдельных сторон жизни социалистического общества велась с позиции самого этого общества, с точки зрения более полного и последовательного воплощения в реальные отношения социалистических идеалов. Сходным образом в средние века даже богохульство выглядело как желание еще более утвердиться в вере [815]. «Средневековый человек не выбирал, быть ли ему христианином. Он рождался и жил в этой атмосфере, но его религиозное поведение, как правило, было автоматическим» [816]. Сходным образом советский человек не размышлял, верить ли ему в социализм и коммунизм. Он жил в атмосфере строительства коммунизма, хотя многое из того, что требовала идеология, делал машинально.
Вера тоталитарного человека слагается из четырех основных моментов:
– вера в тех, кто нашел правильный путь к обществу будущего;
– вера в тех, кто борется за реализацию общества будущего, дает блага жизни или лишает их;
– вера в действенность лозунгов, призывов, ритуала;
– вера в антисоциальные разрушительные силы, мешающие продвижению к обществу будущего.
Можно отметить, что по своей структуре характерная для тоталитарного общества вера полностью совпадает с верованиями первобытных племен [817]. Она совпадает также с системой верований средневекового феодального общества. Это показывает, что коллективизм всегда – начиная с примитивно-коллективистического общества и кончая коллективизмом индустриального общества – имеет структурно одну и ту же систему веры [818].
Хорошим примером того, что вера советского человека в свое общество, в его цель, в коммунистическую партию, ведущую общество к этой цели, была не показной, а естественной, могут служить писатели И. Ильф и Е. Петров. В их романах «Двенадцать стульев» и «Золотой теленок» в острой и злободневной форме описан конкретный период из жизни советского общества: 1927—1931 гг., время утверждения социалистических идеалов. Романы выразили эпоху в непринужденно веселой форме. Авторы восторгаются происходящим, их оптимизм искренен. Ильф и Петров не притворялись, не насиловали себя, не вели двойной жизни. Они без раздумий признавали советскую власть и в общем и целом – партийную линию. Петров писал уже после кончины соавтора: «Для нас, беспартийных, не было выбора – с партией или без. Мы всегда шли с ней». Эти слова стали популярными, они выражали общее отношение к партии. Ильф и Петров безоговорочно восторгались индустриализацией и коллективизацией, разоблачали вредителей и кулаков, презирали свергнутые классы и их культуру, охотно поносили «проклятое прошлое» России. Популярный писатель тридцатых годов Л. Славин, близко знавший Ильфа и Петрова, рассказал много лет спустя: «Уже будучи известным писателем, Ильф подарил свою книгу одному полюбившемуся ему офицеру МГБ и сделал при этом надпись: „Майору государственной безопасности от сержанта изящной словесности“ [819]. Судя по всему, в дружбе «сержанта литературы» с майором госбезопасности в 30-е гг. не было ничего особенного. Можно вспомнить, что в старой России не только литераторы, но даже армейские офицеры не подавали руки жандармским офицерам. Петров, в частности, вспоминал о себе в конце 30-х гг.: «Я переступал через трупы умерших от голода людей и проводил дознание по поводу семи убийств. Я вел следствия, так как следователей судебных не было. Дела сразу шли в трибунал. Кодексов не было и судили просто – „Именем революции…“ [820].
30-е гг. были в Советском Союзе бодрым и веселым временем, несмотря на все несомненные житейские тяготы этого периода.
О том, что власть внимательно следила за тем, чтобы в эту атмосферу не вторгались элементы раздумий и грусти, хорошо говорит история одного портрета Пушкина. Художник М. Чаусовский работал над этим портретом около полутора лет, с мая 1936 г. по январь 1937. В марте портрет был выставлен в Доме учителя на Мойке. Все обсуждение выставки свелось к спору о работе Чаусовского. Художник изобразил поэта так, как это не было принято в царстве соцреализма: Пушкин на портрете был грустен. Портрет был запрещен. В марте 1941 г. Чаусовского посадили в тюрьму за контрреволюционную агитацию. Формально портрет был не при чем, но художник писал в письме: «…мы оптимисты, а у меня Пушкин не улыбается. Конечно! Я испытал на себе участь многих художников, не желающих халтурить… Ежедневно, ежечасно вставал вопрос – как с семьей прожить день? …Странным и совершенно невероятным кажется, что в Советском Союзе масса художников поставлена еще в гораздо более тяжелое положение, чем был поставлен я, и именно художников, всем существом своим преданных делу и не желающих идти по линии наименьшего сопротивления. Некоторые из них погибли: Вахромеев, участник гражданской войны, впоследствии окончивший Академию художеств, – способный художник – долго наведывался в союз за помощью. Наконец получил 500 рублей от союза и в тот же день… умер от истощения… Диманд… не вынес материальных тягот – бросился в Фонтанку. Купцов… повесился…». Это письмо было написано в 1938 г. В 1942 г. Чаусовский умер в лагере на Севере [821].