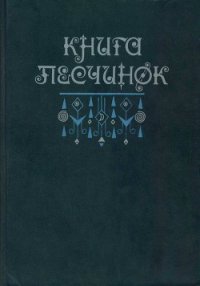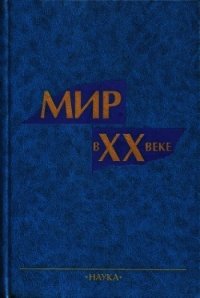Золото, как злоба, никогда не бывает в избытке.
И что хуже всего — оно заражено одиночеством.
Его хозяин всегда одинок: потому ли, что он
в одиночку добыл это золото, или
потому, что захотел остаться один —
одинешенек, в одиночестве, наедине…
В бешеном пламени плавилен [300]
таяло ремесло чеканщиков и ювелиров.
Золото неприкосновенных тронов,
золото чаши, о которой молили пересохшие
губы; золото идолов, у которого в печи
расправлялись морщины и плавились
уши и веки; золото,
выпестованное нежными пальцами
золотых дел мастеров; золото
обруча, которым украшал себя воин;
золото золотых початков маиса,
без которых немыслимо всякое торжество;
золото, золото… Золото, словно
расплавившее себя своими лучами
солнце; золото, струящееся
желтым ручьем; ливень каратов…
Из-за этого стоило потрудиться
вам, нищие Старого Света.
Окупились ваши мытарства. Кто же
не отдал бы себя опять на растерзание
голоду и москитам, кто же
не согласился бы снова
потерять один глаз, лишь бы только
другим увидеть хоть половину этого блеска?
О, ваша награда — особого толка!
Что значит в сравнении с нею
урожай удачливого огородника
и стада свинопаса? Что значат
культяпка вместо руки и таинство чуда?
Плещет и льется ручьем
упругое тело звезды, струится
из тигля светлый дух божества…
«Итак, вынесем ему приговор.
Поделим добычу. Без него
нам достанется больше. Еще больше.
Золото, как злоба, никогда не бывает
в избытке. К тому же,
он мог стать во главе мятежа».
Родина, истерзанная родина, вставшая
у океана, я люблю
твои неизменные формы:
бродячую статую облака пыли,
чашу твоей руки,
упоительно юной, когда прикасается к нам.
И вдруг
с влажного дна,
где крестьяне добывают себе пропитанье,
я достаю
следы босоногих детишек,
след сандалии инки, вмятину от ноги
конкистадора на сере.
Ведь, воскресший, опутанный
бородами растений и временем,
я всего лишь — твой наряд из кожи и слова всего лишь —
оттиск того, кто первым пал за тебя
от монашеского металла пришельцев.
Я выспрашиваю о твоем прошлом у кувшинов,
у гербов, у разрушенных стен — у эха,
эха всего, чем был твой индеец до вторженья креста и коней,
до молчанья;
по я узнаю́ тебя в сухих шпагах пи́ты: я ведь слышал,
как дрожит под рукой лесоруба бедро твоего леса;
я вспоминаю имена погребенных вместе с одеждой и утварью —
и мне ясна глубина неторопливых трав.
Когда утро льет свою пену в полдень,
когда в лапах мангрового побережья увязают
лапы пумы, а волна риса катится
по гранитным и глинистым ступеням плантаций,
то на берегу нефти и вечности — в твоем море,
измученном,
вздыбленном кровью стольких племен, затопленными
селеньями, — вот где следует славить тебя,
твой язык, затерянный в древних твоих корнях, славить,
не снимая шляпы, без чопорности.
Как не любить твои горизонты, огороженные
влажными деревьями и океаном; как не любить
исстрадавшийся твой народ, мяту его герба,
шелестящую на ветру; как не вернуться к лохмотьям
твоего побережья, к переплетенью каналов,
прозрачных от соли и солнца, — если август
бьет мне в лицо пылью и ветром отчизны — то справа,
то слева, — если я иду, целуя ее песчаную
рубаху, целуя сквозь дыры…