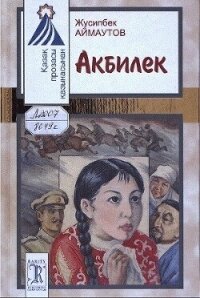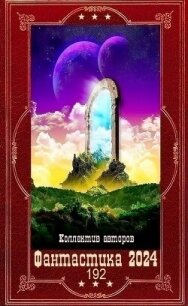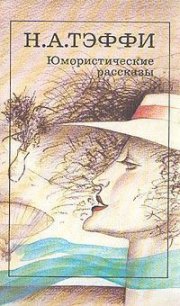Часть первая. АКБИЛЕК
Роман выдающегося писателя Жусипбека Аймаутова «Акбилек» о сложной судьбе женщины единодушно признан высокохудожественным знаковым творением периода социальных перемен, становления новой реалистической казахской литературы В 1931 г. автор был обвинен в контрреволюционной деятельности и расстрелян Его произведения были запрещены, книги изъяты из библиотек и уничтожены Роман «Акбилек» вновь был опубликован лишь в 1989 г. На русском языке издается впервые.
Усть-Камня край.
На правом бреге Бухтармы явил себя на целый белый свет Алтай.
Там, где срывается с южных алтайских высот, струясь в парении, Иртыш, затаился пленивший осень округ Кур-шим, первозданная тишь.
Алтайский Куршим — гнездовье найманов, с времен незапамятных свито, сидят они в нем густо, родовито.
Зима на Куршиме цепкая, с неба — не снежинка, а пушистый ком, а лето проносится быстрым горным ветерком.
Чуть потеплеет, снег подтает, ручьем побежит, тут же всякая скотина блажит, ластится к сосновому пращуру Алтаю, бережно топоча его возрождающую и оберегающую грудь, верно баю.
Вознес к своей главе старец Алтай свою ладонь и хранит на ней пьянящее озеро Маркаколь — не тронь! — с медовым вкусом, с тайнами небесными и небесным ликом.
Ожерелье Маркаколя — белоснежные юрты алтайского люда с жемчужным бликом.
У горцев, баловней Алтая, как у маралов, свой каприз — смотрят на других сверху вниз, никем и ни в чем они не стеснены — своя воля, она в пленительно сти дыханья Маркаколя.
Свежа и сладка вода Маркаколя. Напитаются ее водой и травушкой божьи вымисгые тварины, беля при дойке бабьи бедра из охватисгых сосков и полня кожаг ные ведра — не молоко, а благодать; кумыс же бродит в потемневших от времен минувших бурдюках, целительный, густой, с золотниками жира. Выпьет человек одну чашу, раскраснеется, рот гудит, как кобыз, и падает в объятья мира райских гурий, пьян, душа легче мушки, оседлал все семьдесят ветров Алтая, затеет борцовские игры да скачки, и кони цокают подковами, играя, горы гремят, как погремушки.
А попробуй описать алтайских красавиц — не хватит слов у всех алтайских богов. Отразить их лица способны лишь хвалительные зеркала: глаза, как у козочек, кожа — как снег бела, смех — стремительная заря, стан гибок, как ветка белой ивы; оглянутся, чуть качнувшись, улыбнутся с вызовом — и без ума вы. А попадешься к ним на язычок, враз пришпилят тебя куда повыше с твоими сладострастными фантазиями, пожалуй, прямо к космической крыше.
Но речь не об этом! Готовы слушать, ко всему готов-цьг? Я вам досконально изложу: как все было да почему. Подходите, места занимайте да внимайте. Не сказку, мол, жили-были когда-то… простыми словами поведу рассказ, не кратко, но и не затянуто. Так что оставим пустой разговор, пожалуй, начну. Излагать стихами я не ловок, не обессудьте, если не покажусь вам краснобаем.
В тех, значит, краях по ночным тропинкам пробирается одинокий всадник на пестрой лошади, темный малый. За собой он о ставил Куршим, впереди — Карае-кем, скалистое тупиковое ущелье, поросшее кугой. Не ущелье — провал, войдешь — не выберешься; прячет лицо от благородного Алтая, рысью во мраке скользнул к каменной щели. Кто он, въезжающий в узкие врата подземелья, если он не гонимая смертью скотина или угнавшая скот смертная душа?
Всадник, прежде чем окончательно кануть в ущелье, остановил коня, огляделся. У края скалистой стеньг лежит на каменном ложе с винтовкой некто в сером. Серый, увидев наездника на пе строй лошади, поднял белый шшток„ а тот в ответ замахал белесой шапкой. Затем и сухощавый всадник, и серый владелец винтовки сблизились и вместе двинулись в глубь ущелья.
А в Куршиме вот что: нагулявшие жирок на высокогорных пастбищах Маркаколя люди и животина спусти-8 - лись к подножиям гор и вновь вживались в свои зимовья. Батраки Мамырбая затворили сараи, прибрались в доме, разожгли печь. Мамырбаевская жена — байбише, важно переваливаясь, велела прислуге выбить пыль из войлока юрты и, сложив, убрать его подальше. Любимая доченька Мамырбая Акбилек в белом, развевающемся на ветру платье, звеня золотыми серьгами и серебряными подвесками, вытряхнула красно-желтые одеяла и несла их в дом. Она пробегала мимо мамаши, когда та, хмуро моргая, ворчливо, скороговоркой произнесла:
— Что там в глаз попало? — и завертелась на месте…
— Ничего не попало… к радости… в какой глаз?..
— Обрадуюсь, как же, — левый глаз, — и замолкла: кто же наслал ей эту напасть?
Рассчитавшись за доставленное сено и следя, как прибирают на сеновале, Мамьтрбай на свежем воздухе поразмышлял о политике, не стоять же ему в стороне, когда теперь все в партийных заботах, и к вечеру вернулся домой.
Спускался с горных склонов и расходился по своим лежбищам скот. Детский шум, крик работников, рев скотины, тревожащий душу лай собак… Аул задымил. Рокот реки. Красные сумерки. Позаботившись о скотине, вскипятив чай, люди и сами стали устраиваться на отдых.
Солнце еще не скрылось, как из упоминавшегося уже глубокого ущелья по-волчьи, след в след выскочили четыре всадника. Один из них — на пестрой лошади, уже знаком нам. Трое остальных — в шинелях, с винтовками и саблями. Все четверо разгоряченно с ходу устремились к низине. Заскрежетали в пастях коней удила. Пригибаясь, проскакивая извилистыми тропами, они ворвались в уютно устроившийся, как в берлоге, аул. Ворвались шумно. Перепугали, придавили вскинувшийся люд:
— Ах, сволочи! Давай лошадей!..
Винтовка направлена на тебя, камча над тобой! Не найдешь лошадей, пропал?
И коней отняли, и треножник из-под котла, вещи… ковры, одеяла, сумки, штаны… — все в миг не твое!
— Вашество… господин…
— О, Господи спаси!
— Помилуйте, мы ни в чем не виноваты… — только и смогли проговорить.
В доме Мамырбая едва внесли свежезаваренный чай, только произнесли хвалу Аллаху, как вбежал в комнату один из мамырбаевских работников:
— Наскочили!
— Кто, кто?
— Серые-серые…
— Это кто такие?
— Сплошь русские!
Все, что смог произнести Мамырбай:
— Убирай, прячь, бегите, прячься!
Скатерть так и осталась неубранной, посуда покатилась, вещи брошены в беспорядке, сам Мамырбай с грохотом кидался то к дверям, то в глубь дома… миг — и не видать ни жены его, ни дочери, ни горе-вестника. Решился, наконец, сам бежать, распахнул входную дверь, а в грудь уперлись три ствола. Бай покачнулся и осел тут же.
Битые прикладами, погоняемые клинками аульные мужчины, пыхтя от одышки, засунули своего благодетеля аксакала Мамырбая в мясной холодный сарайчик и навесили чугунный замок. Поминая Бога да семеня ногами от угла сего строения, подскочила байбише и тут же наткнулась на русских.
— Ты откуда?
— Вот… вот, — начала…
— На тебе — «вот-вот»! — и плетью ее, аж полыхнуло в глазах. Белый тюрбан сполз на лицо, а рот — с лица.
— Тащи дочь! Что сказано: тащи!
— Чью дочь, благодетель?!
— Свою дочь, свою
Ой, нет у меня дочери!
Есть дочь! Притащишь!
Русский вновь хлестанул. Женщина заныла, захныкала:
Нет, нет у меня дочери, — врала, как могла.
Сам найду, — бросил русский и кинулся искать.
Трое русских взяли светильники и принялись обыскивать весь дом, заглянули за тюки с вещами, в запечье, повалили кладку сухих, для огня, коровьих лепешек — ни один закуток, ни одной выемки не пропустили; а туда, куда и не заглянешь, потыкали острым древком. Все напрасно, нет девушки.
Как услышала за чаем байбише о русских, тут же схватила дочь — и в низенькую заднюю дверцу и, таща за собой Акбилек, тихонечко кинулась, пригибаясь, подальше от дома; туда-сюда, наконец втиснула ее в какую-то нору в земле: «И шелохнуться не смей!» — а сама вернулась. И наткнулась на так и не нашедшую девушку тройку в серых шинелях. Русские с досадой, но с прежней настырностью прижали мамашу, отвесив ей двадцать пять ударов плеткой. Боялась: вдруг вскрик ее донесется до Акбилек и девичья душа в панике выскочит вон из нежного тельца, сжала зубы, позволив себе лишь скрежетать ими. А как же иначе, как ей отдать на поругание неверным свою баловницу, береженную и от ветерка студеного, и от солнечного жара?