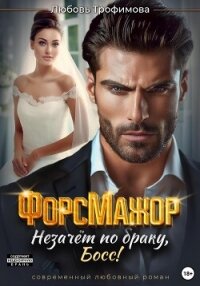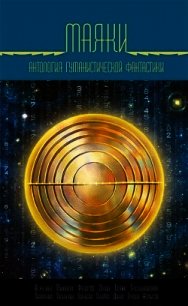Маяки Сахалина - Привезенцев Максим
Я вдруг понял: за этим белым снегом скрывается уникальность. Сахалин – единственный в мире остров, где уцелели маяки трёх держав. Русские, японские, советские. Три эпохи, наложенные друг на друга.
Сахалин как будто не открывался, а вспоминался. Фото, заметки, старые статьи не оседали в архивах, а прокладывали тропу, соединяющую маяки – на карте и в голове.
Пока я перебирал архивы и раскладывал бумажные карты, шла вторая, не менее важная работа – подготовка маршрута. Не романтическая, а инженерная: остров – не прямая дорога. Особенно если ты на мотоцикле. Особенно если за плечами – проект, а не покатушка.
Я нашёл Андрея Цоя случайно. Вернее, он сам нашёлся – через одноклассницу, которая услышала о моей идее и сказала:
– Макс, мой всё время по сопкам эндуро гоняет. У них своя команда. И гонку «No Place to Run» делают каждый год.
Первый разговор длился больше трёх часов. Цой спокойно, без пафоса, рассказал про их коллектив – «Сахалин Эндуро Парк», про трассы и гонки, про то, как они ищут маршруты там, где их никогда не было. Уже в тот вечер стало ясно: если кто и может помочь проложить путь ко всем маякам, то только они.
Потом мы перешли на телефоны. Он передавал координаты, точки дозаправки, делился опытом: где ждать броды, где затяжной подъём, где лучше не соваться. Свою часть маршрута они с командой собирали по рельефу, по памяти, по следам прежних выездов. Я сверял с картами, уточнял логику.
Проект пришлось делить на два этапа: осенью 2024-го – шестнадцать маяков юга Сахалина на мотоциклах, весной 2025-го – северные маяки на сноубайках. Без команды Цоя весь маршрут остался бы на бумаге: красивым, но нежизнеспособным.
Ещё до старта я набросал первый сценарий будущего фильма и вчерне разметил структуру книги. Понимал: после дороги всё придётся переписывать – она всегда рассказывает свою историю. Но и этого оказалось мало: вдруг выяснилось, что почти все сахалинские маяки – объекты Минобороны, и доступ к ним для гражданских закрыт. Пришлось строчить письма в адрес региональных властей с просьбой о поддержке. Или я оказался достаточно убедителен (читай – назойлив), или они действительно прониклись идеей, но спустя полгода у нас были все необходимые разрешения.
В феврале 2024-го я прилетел на остров – всего на несколько дней, чтобы познакомиться с командой экспедиции. Они сами настаивали: сахалинцы – народ вдумчивый и осторожный. Видимо, остров накладывает отпечаток: с незнакомцем в дорогу не идут. Проверить нужно было и сноубайк. Я никогда не садился на него и должен был убедиться, выдержу ли вторую часть маршрута – и выдержит ли он меня.
Всё сложилось идеально: дружба с командой завязалась сама собой, погода выдалась ласковой. Наши сноубайки скользили по снежным покровам сопок, лыжи пели под ветром, мороз и солнце сочетались, как у классика. Душа отзывалась тем же ритмом.
Свобода захлёстывала. Но я держал себя в руках: в состоянии вседозволенности легко вылететь из седла и потом собирать себя по кусочкам на замёрзшем озере, спрятанном за очередным «белым барханом».
Больше всего поразило, насколько непуганой оказалась здешняя фауна. Немногочисленная – зима всё-таки, – но живая настолько, что лес дышал вместе с нами. Рёв сноубайков не тревожил ни соболей, ни краснокнижных оленей-кабаргу. Они смотрели на наши манёвры спокойно, будто забыв, что по-прежнему остаются частью пищевой цепи.
В одном из распадков – узких долин между сопками, – остановившись для пары «эпических» снимков, я увидел охоту. Пятеро соболей окружили потерявшую бдительность кабаргу. Один из них молниеносным, отточенным прыжком вцепился в её холку. Всё произошло почти беззвучно. Я стоял, не двигаясь, наблюдая, как жизнь уходит за считанные минуты. Олень упал и стал обедом.
И вдруг в этой тишине, среди белого покрова и звериной точности, меня кольнула мысль: а если рёв мотора разбудит медведя? По словам местных, их здесь в избытке. По спине скользнул холодный пот.
Я оглянулся, плавно открутил газ и рванул догонять группу. На снегу соболи рвали кабаргу – зверька ростом с собаку. Их тёмные тела метались молниеносно, как ожившие тени. Снег темнел, тишина рвалась хрипами, и сквозь мороз прорезался сладковатый запах крови.
Я ускорился, зная: это останется со мной.
За три дня я поднялся с уровня «бесстрашного чайника» до «предпенсионного юниора», а там и до «продвинутого новичка». Один раз лёд проломился прямо под байком. Я ушёл по пояс в воду, но, к удивлению, не простыл: сноубордические ботинки не дали замёрзнуть. Другой раз слишком резко взлетел по склону и на полном ходу врезался в берёзу, спрятанную под скатом. Стиснул зубы – и сломал один. Впрочем, всё могло закончиться куда хуже, не будь на мне шлема. Больше ни одно дерево во время зимней экспедиции не пострадало. Зуб даю.
После всех испытаний в сноубайк я влюбился окончательно и уже предвкушал радости будущего зимнего мотопутешествия.
После тренировок я заехал в Государственный архив Сахалинской области. Несколько лет назад я передал туда коробки с плёнками из семейного архива: семь тысяч фотоснимков и восемь документальных фильмов, снятых моим дедом, режиссёром Владимиром Андреевичем Привезенцевым. С 2016 года архив кропотливо оцифровывает этот материал. К моменту моего приезда уже обработана большая часть, в том числе редкие кадры маяков пятидесятых–шестидесятых годов. Колоссальный труд. Сквозь зернистость старой плёнки проступали свет фонарей, лица, стиснутые ветром, и остров, каким он был до нас.
Затем – краеведческий музей. И снова та же мысль: самое трудное – не дорога, не техника, не бюджет. Самое трудное – миф. Найти предания коренных народов оказалось задачей не из этой эпохи. В интернете пусто. Дневники Пилсудского и других этнографов – на старорусском, в бумаге, спрятаны в читальных залах, где пахнет пылью, кожей и тишиной.
Ничего не найдя в запасниках Сахалина, я по возвращении в Москву пошёл в Российскую государственную библиотеку – бывшую Ленинку на Воздвиженке, рядом с Кремлём. Там, среди архивов Бронислава Осиповича Пилсудского, хранились его дневники. Рукописные, плотные, местами исписанные по-старорусски.
И в одном из них я наткнулся на странное сказание. Названо оно было просто – «О Синем Медведе, духе неба и океана». Пилсудский записал его без анализа, без сноски. Просто как слышал – будто знал, что такие вещи не комментируют.
Я пробежал глазами несколько строк: зверь без имени, синий, как утренний туман. И дальше – обрывки, в которых было больше вопросов, чем ответов.
Я закрыл тетрадь. Миф жил только здесь – в архиве, между страницами, в том взгляде со стороны, что не требует объяснений. Он лёг на память, как невидимая закладка.
Я вспомнил о нём в самолёте Москва–Сахалин 3 сентября 2024-го. Первый этап экспедиции. Всё уложено. Все дела позади. Я устроился в кресле, положил руки на подлокотники и на секунду прикрыл глаза. Справа – иллюминатор, крыло, чистое небо. Слева – пустое место. Может, повезёт, и никто не сядет. Было бы хорошо.
В кресло рядом опустился мужчина лет сорока. Потёртый камуфляж, медаль на груди. И сразу вцепился в наш общий подлокотник. Не занял – захватил. Я скользнул взглядом по его куртке: на рукаве – пятно, похожее на медведя. И в этот миг будто кто-то ткнул в грудь: узнаёшь?
Современная версия мифа: медведь в человеке – не в лапах, а в жестах. Идти вспять для него значит не вернуться, а удержать.
С кем он сражается? Со мной – за два сантиметра пластика? Или с собой – за иллюзию контроля?
Полбеды, если напротив вежливый человек: уберёт локоть – и всё. Но если рядом медведь? Давить в ответ смешно. Объяснять – бессмысленно.
Такая война проиграна ещё до начала.
Я отвернулся. Он, довольный, хмыкнул:
– Домой едете?
– Можно и так сказать, – ответил я.
Он что-то пробурчал про гостинцы для родни. Я кивнул, надел наушники, включил старый блюз и нырнул в звук. Там всё было на своих местах.
Я был один. Внутри акустической скорлупы, где не нужно бороться – ни за сантиметры, ни за смысл.
Похожие книги на "Маяки Сахалина", Привезенцев Максим
Привезенцев Максим читать все книги автора по порядку
Привезенцев Максим - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.