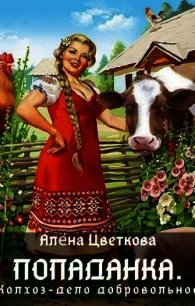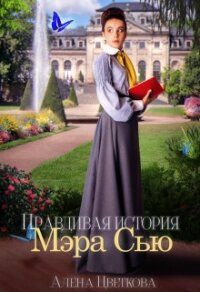Алёна Цветкова
Семеро по лавкам, или "попаданка" во вдову трактирщика
Пролог
— Олеся, вставай! — кто то настойчиво тряс меня за плечо. — Егорка с соседскими мальцами опять со двора сбежал на перекаты… А Анушку вчера в потёмках я у конюшни поймала, глазки купцам строила!
Я застонала. Что за странный сон? Кто все эти люди? Попыталась отвернуться и доспать. По моим ощущениям, до будильника ещё не меньше пары часов. Но странная тётка, словно рождённая моим воображением, не унималась.
— Олеся! — она снова тряхнула меня за плечо. — А ещё молочник из деревни пришёл… И мясник… Денег требуют! Говорят, заплатить надобно, иначе больше ни молока, ни мяса возить не станут…
— Так заплати! — вырвалось у меня в сердцах, и я удивлённо замерла.
Голос был не мой: писклявый, тоненький, пронзительный, будто кто то провёл пальцем по мокрому стеклу.
— Кто это сказал?! — невольно вырвалось у меня. И снова чьи то чужие губы произнесли мои слова. — Что происходит?!
Я открыла глаза и села на постели, мечтая то ли проснуться, то ли разобраться с шутниками, которые проникли в мою квартиру и устроили этот нелепый цирк. И замерла, с ужасом оглядывая окружающее пространство.
Грязные бревенчатые стены, покрытые копотью; над головой такой же закопчённый потолок, или, вернее, просто доски, небрежно уложенные на толстые деревянные балки, сквозь которые проглядывала крыша из грязной соломы… А запах: смесь сырости, плесени, грибов, прогорклого жира и кислого «аромата» заброшенного жилища…
— Где я?! — ахнула я, ущипнув себя за руку. Всё ещё надеялась, что вот вот проснусь.
— Дак где где? — с удивлением спросила старуха: седая, в сером застиранном платке и неопределённого цвета то ли платье, то ли халат. Впрочем, на мне было надето точно такое же тряпьё. — Дома…
— Дома?! — голос предательски дрогнул.
Я точно не спала. Вслед за запахом пришло осознание собственного тела, и боли. Зря я щипала себя за руку: болело всё — спина, ноги и почему то одна щека. Что то сильно загораживало обзор. Я подняла руку, дотронулась до лица и вскрикнула.
— Вот говорила я вчера, надобно холодного приложить, — проворчала старуха. — У Прошки то рука тяжёлая, как и братца евоного… Теперича сколько дней кривая ходить будешь…
Она тяжело вздохнула.
— Прошка? — переспросила я шёпотом. Чужой голос уже не пугал, став почти привычным. — Кто этот Прошка?!
Старуха бросила на меня быстрый взгляд и всплеснула руками:
— Неужто запамятовала?! Деверь твой… Как муж твой помер, так ты ему весточку и отправила. Вот он и примчался, жениться. Два дня куролесил, вроде угомонился. Завтра пойдёте в храм. Я уже батюшке подношение отнесла, как ты велела; сказал — оженит вас, не будет ждать годину то. Чай, знает, что вдовой бабе с семью детишками жизни не будет.
Я кивнула, хотя по прежнему ничего не понимала. Голова шла кругом, подташнивало. Хотелось прилечь и разобраться, что к чему…
Ещё вчера вечером я жила совсем в другом месте. У меня была работа, своя квартира и счёт в банке. Я мечтала купить машину и дачу на берегу южного моря…
Но сейчас всё это казалось сном, реальность вокруг разительно отличалась от моих воспоминаний.
И тут до меня дошло:
— Оженит?! Нас?! То есть меня?!
— Ну дак не меня же, — рассмеялась старуха. — Не у меня ж семеро по лавкам то. Чего это с тобой такое, а? Вроде ж не пила вчера…
Старуха взглянула на меня с подозрением и махнула рукой:
— Ладно, лежи… Сама за дитями присмотрю сегодня. И скажу молочнику то с мясником, чтоб после свадьбы приходили. Пусть Прошка разбирается, кто и сколько кому должен.
Она вышла из грязной избы через распахнутую настежь дверь, бормоча себе под нос так громко, чтобы я точно услышала:
— Тоже мне придумали… К бабе явились. Вот неймётся им. Знают, поди, что Прошка теперича за хозяина будет. У него то не забалуешь. Гроша лишнего не получишь. А будешь шибко напирать, так он и кулаки почесать не дурак.
Старуха вышла, а я осталась одна.
На миг закрыла глаза… Почудилось, что если открою их, весь этот кошмар закончится, и я снова окажусь там, где ещё вчера был мой дом.
Но нет: сколько я ни моргала, реальность оставалась всё такой же нерадостной: грязный сарай, избитое тело и фингал под глазом от деверя Прошки, моего будущего мужа.
Я опустилась на низенький топчан, накрытый грязной рогожкой, жёсткий, без матраса и перины.
А ещё есть дети… Старуха сказала: «Семеро по лавкам…»
В груди что то шевельнулось при мысли о детях, что то тёплое, мягкое и нежное, отчего на губах сама собой появилась глупая улыбка. Это были не мои чувства, а той, что говорила тонким, пронзительным голоском… Той, что жила здесь, в грязном сарае… Той, которая послала весточку Прошке, чтобы выйти замуж за человека, распускающего руки. Потому что у неё семеро по лавкам…
В той жизни, где были квартира, работа и мечты о машине и даче, детей у меня не было. Да и семьи то не было, если не считать семьёй старого кота, ушедшего на радугу пару лет назад.
Сначала не хотела — не до замужества было: училась. Потом строила карьеру. Потом, когда доходы позволили не пахать по двадцать часов в сутки, решила немного пожить для себя. А когда опомнилась, уже исполнилось тридцать пять: ни кола ни двора, только работа и умерший от старости кот.
Тогда, оплакав любимца, я решила изменить свою жизнь: подкопить денег на декрет и родить для себя. В тридцать пять совсем не поздно стать мамой.
Замуж, конечно, тоже хотела, но не за кого попало. Зачем мне муж просто так, для галочки? Нет, я мечтала о человеке, с которым будет лучше, чем одной. Но такие мужчины словно испарились: хороших разобрали ещё в молодости, в сорок они уже были прочно женаты. И хотя «второй сорт — не брак», но просто положить «штаны» на диван, чтобы были, я не собиралась. Лучше быть матерью одиночкой, чем терпеть рядом посредственного мужчину.
Но та, что была раньше мной здесь, в этой жизни, думала иначе. Ради детей она готова была терпеть что угодно: побои, издевательства, изнуряющую работу с утра до ночи в трактире мужа, который был ничем не лучше своего братца.
Её воспоминания подкрались незаметно, очень осторожно, мягко, словно боялись причинить неудобство. Она, та Олеся, и сама была такой же: мягкой и незаметной. В собственном доме старалась никому не мешать, держаться в тени, делать вид, будто её вовсе не существует. Впрочем, вряд ли я могла её в этом винить.
Всё хорошее, что было в её жизни, осталось в раннем детстве, во времена, когда была жива мама. Потом мать умерла, и отец женился во второй раз, на женщине с двумя дочерьми. Мачеха невзлюбила падчерицу с первого взгляда и принялась гнобить её, превратив в служанку для себя и своих дочек.
Очень похоже на историю Золушки?
Вот только Олеся — не Золушка. И в мужья ей достался не принц, а трактирщик, женившийся на ней, чтобы не платить за работу на кухне. Муженёк относился к Олесе ничуть не лучше мачехи, только рука у него была тяжелее, а следы от побоев заживали куда дольше.
Но Олеся всё равно была благодарна ему, ведь впервые в жизни кто то любил её. Любил по настоящему, самозабвенно, искренне и от всей души. Только это был не муж, это были её дети. И Олеся отвечала им тем же.
Недавно её муж повздорил с заезжим молодцем, о котором потом говорили, что он из Теней — клана наёмных убийц. Тот, недолго думая, вонзил тонкий и узкий стилет в печень задиристого трактирщика и исчез, словно его и не было. Муж промучился пару дней и всё таки умер, оставив Олесю одну с семью детьми… и трактиром в собственности.
Под давлением той самой старухи, что разбудила меня, Олеся решила снова выйти замуж и передать трактир мужу. Чтобы имущество не ушло на сторону, выбрала в женихи Прошку. Старуху, кстати, звали Авдотья. Она работала в трактире кухаркой, жалела Олесю и постоянно учила её уму разуму, разумеется, на свой лад.