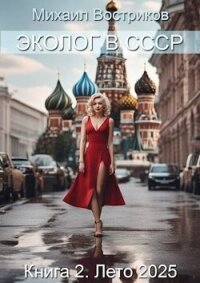Древнееврейские мифы - Вогман Михаил Викторович
Ознакомительная версия. Доступно 12 страниц из 59
Заточенный в колодки у главных городских ворот за свою проповедь, Йирме-Яѓу жалуется Богу на Него самого и злополучный пророческий дар:
Пророк был бы рад отказаться от своей миссии, но она жжет его изнутри:
В этом отношении фигура Йирме-Яѓу напоминает образ греческой трагической героини Кассандры — дочери троянского царя Приама, безуспешно предупреждающей окружающих о падении Трои. Согласно легенде, Аполлон наделил ее пророческим даром, чтобы соблазнить, а будучи ей отвергнут, сделал так, чтобы никто ей не верил.
Двойственность голосов человека и Бога в пророческих книгах связана и с отличием в их задачах. Пророк — не просто пассивный инструмент Божественного Слова, он призван добиваться изменений в обществе, воздействовать на людей: тогда, возможно, Бог переменит гнев на милость. В этом смысле пророк также заступник за народ, добивающийся отмены небесного приговора, — если это, как в случае Йирме-Яѓу, не становится невозможным.
Значительную часть материала в книге пророка Йеша-Яѓу составляют тексты, которые ученые считают созданными уже не самим иерусалимским пророком VIII в. до х. э., а его далеким последователем, жившим в Вавилонском плену — почти на два века позже. Этого автора называют Второисаией или Девтероисаией; выделяют в книге и третью руку, которую приписывают его ученику Тритоисаие. В плену действует также пророк Йехезк-Эль.
Основная тема Второисаии — освобождение из Вавилонского плена. Пророк изображает спасение в фантастических тонах, как радикально новое и несравнимое событие: горы и долины выровняются, пустыня наполнится водой, а «Слава Господа» явится всем. Также именно Второисаие приписывается первая последовательная монотеистическая теология, отрицающая политеизм и утверждающая трансцендентный характер Божества.
Утверждение последних строк, будто Бог является причиной не только добра, но и зла, может представлять собой полемику с зарождающимся в Персидской империи зороастризмом, постулировавшим у мироздания два равновеликих начала — светлое и темное. «Но зачем Бог создает зло?» — этот вопрос будет еще много поколений занимать умы теологов. Можно догадываться, что, приписывая своему Богу сотворение зла, Второисаия это зло демифологизирует, лишает самостоятельной сущности; этим он в итоге указывает на преодолимость зла и даже, возможно, на задачу его преодоления, стоящую перед человеком:
Второисаия также подробно разрабатывает полемический концепт язычества, то есть единой, на его взгляд, религии остальных, кроме евреев, народов Древнего мира. Пророческий автор объясняет суть этой религии как поклонение идолам: обвиняет политеизм в ложном обожествлении изготовленных человеком изображений. Статуи действительно были важным элементом древнеближневосточных культов, однако на самом деле не отождествлялись с богами, а лишь репрезентировали их. Второисаия нарочно игнорирует реальную теологию политеизма, потому что его цель — демифологизация: поскольку никаких богов, по его мнению, не существует, поклонение им оказывается на самом деле скрытым обожествлением их репрезентаций, за которыми ничего не стоит. Коль скоро и сам человек есть лишь эфемерное и непрочное творение Бога, тем более эфемерны и не достойны поклонения произведения его рук. Таким образом, любые божества объявляются несуществующими.
Такой образ язычества стал доминирующим в еврейской Библии. Вот как излагает этот концепт псалом 113(115):
Представление о язычестве как поклонении образам — тоже своего рода мифологема, которая символически оттеняет поклонение уникальному трансцендентному Богу, лишенному какого-либо образа. Оно несовместимо с мотивом полубожественных покровителей других народов и позиционирует невидимого и неизображаемого, но все же «живого» Бога как уникальную надмирную силу, управляющую всем историческим процессом целиком.
Наши рассуждения о пророчестве и представлениях древних евреев о нем были бы неполными без еще одного мотива: прекращения пророчества. В какой-то момент прямой канал информационной связи с божественным миром был осознан как принадлежность классической, утраченной эпохи, несовместимый с повседневностью. Окончательные формулировки представлений о конце пророчества, совпавшем со строительством Второго Храма в конце VI в. до х. э., обнаруживаются только в позднейшей — раввинистической — литературе. Тем не менее наблюдается исчезновение пророческих книг из еврейского литературного репертуара второй половины I тыс. до х. э. Последние пророческие книги — Захарии (Зехар-Яѓу) и Малахи — описывают как раз восстановление Храма и вряд ли были созданы сильно позже. На смену им приходит совсем другой жанр (апокалиптика, или литература Откровений), отражающий позднеантичный иудейский мистицизм, далекий от пророческой проповеди в ее изначальном виде. В частности, книга пророка Даниэлля (Даниила), завершенная поздно, около середины ΙΙ в. до х. э., не претендует на продолжение древней пророческой традиции, а приписывает полученные откровения персонажу, живущему еще в Вавилонском плену. Другие книги апокалиптики также бывают написаны от лица великих героев прошлого — напротив, современность воображается как время, откровения лишенное.
Ознакомительная версия. Доступно 12 страниц из 59
Похожие книги на "Избушка на костях", Власова Ксения
Власова Ксения читать все книги автора по порядку
Власова Ксения - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.