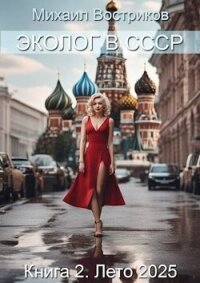Древнееврейские мифы - Вогман Михаил Викторович
Ознакомительная версия. Доступно 12 страниц из 59
Наша задача, таким образом, заключается в том, чтобы избежать обеих крайностей и, не сводя все многообразие древнееврейского наследия к мифу в архаическом смысле, тем не менее не пытаться свести его и к чисто логическому началу, что было бы не меньшим, а то и большим упрощением. В действительности, как мы увидим, можно говорить о новых формах бытования мифа (в широком смысле) — теологических представлениях, историософских конструкциях и историко-мифологических рассказах.

Г. Доре, «Победа над Левиафаном». Гравюра, 1865 г.
Gustave Doré / Wikimedia Commons
Первым упоминанием евреев в истории считается стела фараона Мернептаха, высеченная между 1213 и 1203 гг. до х. э. В этом документе, написанном стихами, фараон заявляет о своей абсолютной победе над неким народом под названием I.si.ri.ar, то есть, предположительно, Израиль: «Израиля нет, семя его уничтожено». Вскоре после эпохи Мернептаха появляются и первые археологические находки, связанные с предками древних евреев, — небольшие поселения в прежде не освоенных нагорьях. По всей видимости, жители этих поселений частично были осевшими кочевниками, а частично — беглецами со вступивших в период кризиса земель, подконтрольных Египту и ханаанейским городам-государствам. Со временем племенной союз этих освоителей нагорий станет главной политической силой в регионе и превратится в два небольших царства — Израиль (Йисраэль) со столицей в Самарии (Шомроне) и Иудею (Йеѓуду) со столицей в Иерусалиме. Именно они станут центром формирования демифологизаторских идей, легших в основу Библии.
В первой главе мы обратимся к самым архаичным пластам еврейской культуры — к вопросу о том, во что могли верить и о чем рассказывали древние евреи, до того как наступили революционные изменения осевого времени с их демифологизацией. Для этого я использую, с одной стороны, наследие ханаанейцев (предков и соседей древних израильтян в древнейшие эпохи), а с другой — рудименты языческих представлений, которые можно обнаружить в некоторых местах Еврейской Библии [5]. По-видимому, несмотря на развитие новых идей, значительная часть народной религии оставалась языческой на протяжении долгого времени, как и в целом характер мировоззрения. Одним из центральных образов этого мировоззрения могла быть ежегодная битва божества-громовержца с морским чудовищем Левиафаном, олицетворявшим хаотические силы.
Во второй главе мы перейдем непосредственно к процессу становления древнееврейской религии — к тому, как и почему мифологические представления были отвергнуты и какие новые представления заняли их место. Значительную роль здесь сыграли трагические исторические обстоятельства — депортация жителей обоих израильских царств сперва ассирийцами (Израиль, VIII в. до х. э.), а затем вавилонянами (Иудея, VII в. до х. э.). Именно в Вавилонском плену, по всей видимости, идеи библейского монотеизма утвердились в еврейском обществе. С одной стороны, сложившиеся в еврейской Библии представления носят яркий антимифический характер, будучи построены на идее «расколдовывания» мира, примата нравственности и исторической перспективе. Так, Левиафан перестает быть старшим и полноправным противником Божества, а превращается в одно из Его творений.
С другой стороны, библейские представления также могут быть описаны как своего рода исторические мифы — например, представления о народах (и, в частности, народе Израиль) как субъектах истории. Такого рода концепты имеет смысл дистанцировать от собственно архаического мифа в силу их исторического характера, что не отменяет, однако, их функциональной роли, близкой к роли мифа.
Место мифа в библейской религии во многом заняло Пятикнижие (Тора) — сборник многовекового законодательного и повествовательного материала, завершенный и канонизированный [6] в V или IV в. до х. э. Как текст письменный, с одной стороны, и предписательный — с другой, Пятикнижие совершенно иначе, чем миф, взаимодействовало с миром и читателем: требовало исполнения, а не подражания; комментария, а не магического повторения. Тем не менее события Пятикнижия, размещенные в истории, также ложились в основу ритуала, становясь тем самым историзированным вариантом мифа.
В третьей главе мы рассмотрим Пятикнижие в целом, на макроуровне, а в четвертой обратимся к уровню отдельных историй — к тому, как трансформируются мифологические материалы, попадая в новый тип повествования — библейский рассказ. Ему, как мы увидим, чужда завершенность мифа — напротив, он направлен на то, чтобы проблематизировать реальность, вызывать у читателя фундаментальные вопросы. Тем не менее он может, с одной стороны, происходить из архаических мифов, а с другой — принимать на себя объяснительные и идеологические задачи, которые ранее были характерны для этих мифов.
Таким образом, мы на нескольких уровнях рассмотрим новые роды представлений и текстов (которые пришли в еврейском мире на смену архаическому мифу), чтобы убедиться как в их родственности мифу, так и в их отличности от него. Дальнейшая их судьба — и в том числе ремифологизация — останется уже за рамками этой книги, однако войдет в ее вторую часть — «Мифы в иудаизме и каббале».
Глава 1. Архаические верования и их судьба
В этой главе мы предпримем попытку заглянуть в мир представлений, которые существовали у древних израильтян до окончательного формирования Библии и были ею в значительной степени упразднены. В следующих главах мы увидим, как это упразднение происходило, и разъясним многие понятия, звучащие в этой главе лишь вскользь. Здесь же нашим предметом будет попытка реконструкции всего того, что роднило израильтян с другими народами древнего Ближнего Востока. Этот общий духовный мир, восходящий к бронзовому веку, мы условно обозначили как «архаический» по отношению к «классическому» для евреев библейскому монотеизму и другим интеллектуальным революциям осевого времени.
Библейский корпус стремится оставить у читателя впечатление, будто уже на самой заре своего существования израильский народ столкнулся с чудом Синайского откровения — и этот опыт перечеркнул, затмил весь их предшествующий религиозный опыт. Впрочем, и тот был частично связан с семейной религией потомков Авра(ѓа)ма (Авраама) [7], то есть с явлением того же Божества, невидимого и неизобразимого. Но так ли это было на самом деле? Тщательное исследование текста и археологических свидетельств показывает, что, по-видимому, до поры до времени многие жители древнего Израиля были теми, кого Библия назовет язычниками: они поклонялись как разным богам, так и различным культовым объектам (в том числе изображениям) подобно соседним народам. Как мы убедимся, разделяли они с соседями и архаически-мифологический характер верований.

Синайское нагорье — один из возможных прообразов места дарования Торы. Г. Фэнн, «Вид на восток от горы Рас-Суфсафе», ок. 1881–1884 гг.
The New York Public Library Digital Collections
Уже сам настойчивый запрет библейского законодательства на верование в других богов или изготовление культовых изображений намекает, что именно такова могла быть реальная практика многих израильтян. Подтверждает это при внимательном рассмотрении и буква библейского повествования: сразу после Откровения трансцендентный Бог, как утверждается, получил изображение в виде быка (золотого тельца, Исх. 32:1–6), а на протяжении дальнейших странствий по пустыне единобожие могло соседствовать с жертвами каким-то языческим божествам или демонам — волосатым сеиримам (сеирам, śəʿîrīm, Лев. 17:7). Обе практики сурово критикуются, но рассказ о них, скорее всего, отражает реальное положение дел на протяжении многих веков.
Ознакомительная версия. Доступно 12 страниц из 59
Похожие книги на "Избушка на костях", Власова Ксения
Власова Ксения читать все книги автора по порядку
Власова Ксения - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.