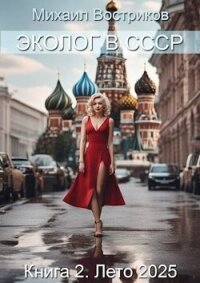Древнееврейские мифы - Вогман Михаил Викторович
Ознакомительная версия. Доступно 12 страниц из 59
То же относится и к историографическим рассказам об эпохе, предшествующей Вавилонскому плену в VI в. до х. э.: мало того, что значительная часть народа поклоняется различным божествам (которых библейские авторы пытаются объяснять иноземным влиянием), — в центральных святилищах Самарийского царства Господь представлен в виде статуи быка (3 Цар. 12:26–33), а в Иерусалиме рядом с Ним спокойно существуют различные культовые объекты, включая статуи, «ашеры» (см. ниже), колесницу солнца и медного змея Нехуштана (4 Цар. 18:4). Таким образом, в реальности библейскому единобожию предшествовала, а какое-то время и конкурировала с ним религиозная культура совсем другого типа, обладавшая своей мифологией, близкой к другим мифологиям древнего Ближнего Востока.
Крайне мало известно о добиблейских верованиях евреев: все, с чем мы имеем дело, суть лишь осколки языческого прошлого, сохранившиеся в библейских текстах, порой даже вопреки воле их авторов и составителей. Иногда, например, какой-то текст мог казаться слишком авторитетным, а образ слишком традиционным, чтобы его изъять, а иногда более ранний текст подвергался трансформации, следы которой остались различимы глазу исследователя. В других случаях мы узнаем о реальных верованиях лишь из критики, которую на них обрушивают авторы текстов еврейской Библии. Помимо прочего, мы можем проследить, как эти верования адаптировались к библейскому монотеизму и, соответственно, трансформировались.
Не менее важным источником здесь служат тексты, созданные соседними народами. В архаический период мир древних израильтян представлял собой, по-видимому, частный случай мира ханаанейского, процветавшего в бронзовом веке на Восточном побережье Средиземного моря. Ханаанейцы — носители западносемитских языков ханаанейской группы — населяли в это время Южный Левант, в том числе и земли, ставшие затем Израилем и Иудеей; к числу ханаанейских народов относятся по языку и древние евреи, которые, несмотря на позднейшую (в Библии) религиозную полемику с ханаанейской религией, все равно, по-видимому, свой язык называли ханаанейским (Ис. 19:18). Мы знаем о восточносредиземноморских (ханаанейских) верованиях прежде всего из библиотеки города Угарита — важного торгового центра позднего периода бронзового века [8]. Найденные там эпические поэмы о богах дают сопоставительный материал для реконструкции добиблейской мифологии в регионе. В железном веке наследниками ханаанейского мира выступали города-государства финикийцев, в том числе Тир, Сидон, Библ и впоследствии Карфаген; эллинизированная версия финикийской теогонии доступна нам также в позднеантичных фрагментах Филона Библского [9].
Доставшиеся нам фрагменты зачастую недостаточно информативны. И наоборот: там, где они информативны, могут противоречить друг другу, а не складываться в единое целое. Это связано с тем, что при отсутствии единой власти разные города-государства Ханаана имели свои локальные мифы и верования, похожие в общих чертах, но различавшиеся в конкретике. Тем труднее реконструировать еврейскую версию этой мифологии.
Так, сегодня понятно, что Господь [10] (в еврейской Библии Он имеет собственное имя, составленное из четырех букв — Y, H, W и H, чтение которого было со временем табуировано и затем утрачено) первоначально был лишь одним из многочисленных божеств, сыном верховного божества (Эля или Эльона). Рядом с Ним существовали другие божества, среди которых Он мог быть даже не самым старшим, а также божественная супруга — Ашера. Став единственным Божеством, этот YHWH перетянул на себя, как мы увидим, имена и черты других архаических божеств.
Другое имя, которым называется Бог в библейских текстах, — ʾĕlōhîm [11] — представляет собой существительное множественного числа и переводится как «боги», однако в предложении управляет сказуемым в единственном числе: буквально «Боги сказал», «Боги сделал» [12]. Это может быть размытым рудиментом того, что эти функции первоначально выполняла целая группа персонажей — совет богов. Так, Филон Библский называет тем же словом «Элоэйм» (то есть «Элоѓимы») сподвижников бога Эля. Иногда и библейский Творец также говорит о себе во множественном числе — «Мы» (Быт. 1:26, 3:22, Быт. 11:7, Ис. 6:8). Черты архаической множественности (возможно, образа божественного совета) были истолкованы потомками как pluralis majestatis — указание на особенное величие (ср. «Мы, Николай Второй»). Кроме того, Он известен временами и как Эль, и как Эль-Шаддай, и под другими именами, которые могли первоначально принадлежать отдельным мифологическим фигурам.
Итак, в этой главе мы попытаемся восстановить, во что могли верить древние израильтяне до того, как монотеистический взгляд на мир окончательно восторжествовал во всех слоях общества, — что, по-видимому, произошло не раньше Вавилонского плена и возвращения из него в конце VI в. до х. э. Мы также увидим, какие следы эти архаические верования оставили на следующих этапах историко-культурного развития.
Угаритские тексты могут быть поняты и таким образом, что во главе восточносредиземноморского пантеона могла стоять не одна фигура, а две — отцовская и сыновняя. Черты обеих — и даже саму идею подобной двойственности — можно проследить затем и в библейском Божестве.
Главным среди богов выступал Эль (в угаритском Илу, в русских переводах также встречаются варианты Эл, Ил), что восходит к общесемитскому слову со значением просто «бог». Он называется «отцом богов», «царем вечности», «мудрым, как мир» и в итоге считается сотворившим или породившим вселенную — «нашим создателем». Эль изображался с длинной седой бородой, в которой содержалась его великая мудрость, сидящим на троне с поднятой в благословляющем жесте рукой. По-видимому, именно он распоряжался судьбами людей. Эль занимался тем, что заседал (судил или пировал) во главе совета богов — своих семидесяти сыновей, в роскошном шатре на далекой северной горе. В Египте Эль (Илу) отождествлялся с Птахом, богом-творцом по мемфисскому мифу, а у позднейших греко-римских писателей — с Сатурном (Кроном), вечно пирующим вдали от земных дел.
Со временем образ Эля мог усложниться. Так, Филон Библский описывает финикийского Крона (то есть Эля) следующим образом:
Четыре глаза, спереди и сзади, причем двое из глаз были спокойно закрыты, а на плечах четыре крыла, два распущенных и два сложенных. Этим символически указывалось, что Крон и во время сна видит, и во время бодрствования спит. Равным образом и крылья указывали на то, что он летает во время отдыха и отдыхает во время полета… и на голове опять-таки два крыла: одно указывает на его ум предводителя, другое — на чувство [13].
Милосердие, приписывавшееся Элю (Илу), не следует отождествлять с современным образом этического блага. Так, в действительности в Карфагене и других культурах древнего Средиземноморья с Элем также связаны обычаи детских жертвоприношений. В первую очередь это относилось к старшим сыновьям (первенцам) царя и аристократии. Филон Библский напрямую описывает своего Крона, то есть Эля, как убийцу нескольких сыновей (что не может не напомнить мотив пожирания греческим Кроном своего потомства). След этого комплекса мотивов сохранился в еврейском мире в ритуальной «посвященности» первенцев Господу, с одной стороны, и в истории жертвоприношений Авра(ѓа)ма и Йифтаха (см. главу 4) — с другой. Более того, в эпических текстах Эль (Илу) вполне покровительствует не только спасительным, но и деструктивным силам. Таким образом, в его образе можно угадывать историческое предшествование трансцендентности и благости библейского Бога, — но существует Эль еще в мифологическом, чуждом этике мире, в котором хаос непротиворечиво составляет интегральную часть божественности.
Ознакомительная версия. Доступно 12 страниц из 59
Похожие книги на "Избушка на костях", Власова Ксения
Власова Ксения читать все книги автора по порядку
Власова Ксения - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.