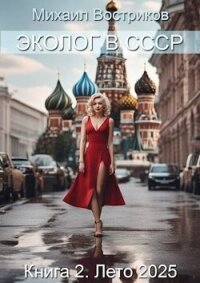Древнееврейские мифы - Вогман Михаил Викторович
Ознакомительная версия. Доступно 12 страниц из 59

П. С. Бартоли, «Каин и Авель», кон. XVII в.
The Rijksmuseum
Этимология имени Каин («кузнец») почти полностью выпадает из поля зрения рассказчика. Если она и повлияла на сложение повествования, то лишь через в целом предосудительное отношение авторов к кузнечному делу (которое по простому смыслу текста откроет лишь дальний правнук Каина — Туваль-Каин). Изгнание Каина может указывать на кочевой характер раннего кузнечества; возможно, особый знак, которым Каин будет отмечен в результате совершенного убийства, также связан с особыми приметами кузнеца (например, в греческом мире таковой была хромота). Но и об этом мы можем только догадываться.
В рассказе Каин выступает, напротив, первым земледельцем, а его младший брат — первым скотоводом. Таким образом, базовое разделение труда занимает в книге Бытия подобающе базовое место — становится первым, что произошло с людьми в истории. В символическом смысле Каин, вероятно, так и будет выступать «предком» всех крестьян (недаром он затем станет основателем первого города), а его братья (Авель, а после его убийства — Шет (Сиф)) — всех скотоводов. Однако текст умалчивает и об этом; нет также и никаких подробностей изобретения этих профессий — ни приручения животных, ни одомашнивания злаков. Просто:
Ѓевель стал пастухом стад, а Каин — земледельцем.
В итоге (по-видимому, в конце хозяйственного года) оба брата принесут Творцу жертву: один — «от плодов земли» (вероятно, хлеба), другой же — «от первородных» (или «лучших») стад. Обе формы жертвы существовали в израильском обществе, хотя огненная жертва животных, по-видимому, была более значимой и считалась ритуальной пищей Божества. Тем не менее возделывание земли — призвание человека в предшествующих рассказах о его творении: несмотря на симпатии авторов к Авелю, который выходит в тексте на первое место по сравнению со старшим братом, рассказ не утверждает однозначного превосходства одного из двух базовых ремесел. В этом смысле Каин и Авель суть абстрактные земледелец и скотовод «в вакууме» — в резком отличии от их потомков, которым, конечно, придется сочетать в своем рационе (и культе) оба элемента. Наши же герои с самого начала делают попытку существовать в абсолютном разделении (что, вероятно, и приводит их к катастрофе). Тем самым перед нами, возможно, история не о неправильном ремесле, а о неправильном взаимодействии.
Бог принял жертву Авеля, но не посмотрел на жертву Каина. Почему — рассказчик умалчивает. Возможно, мы должны полагать, что Творцу угоднее животная жертва, жертва скотовода, однако это лишь догадка, никак не подтверждаемая изнутри текста. С тем же успехом мы можем предположить по разнице в описании, что Авель принес все лучшее (жир «лучших стад»), а Каин — какое придется. Однако и такой морали в рассказе не выводится. Поведение Бога остается загадкой: хотел ли Он, например, испытать Каина, или заставить братьев обмениваться продуктами своего хозяйства? Этого мы никогда не узнаем. Собственно, не знаем мы, и каким образом Бог «принял» дар одного и «не принял» дар другого. Гадали ли они по столбу дыма? Слышали голос с неба?
Как бы то ни было, «горько стало Каину, и лицо его поникло». Лишь в этот момент Бог активно появляется на сцене, обращаясь к нему с не вполне понятной речью:
Сказал Бог Каину:
— Отчего тебе горько? Отчего поникло твое лицо? Если делаешь благо, то не поднимаешь ли голову? Если же нет, у порога — грех лежит; он вожделеет тебя, а ты управляй им!
Говорил Каин с братом. Но когда были они в поле, поднялся Каин на брата Ѓевеля, и убил его.
Спросил Бог Каина:
— Где Ѓевель, твой брат?
Ответил Каин:
— Я не знаю. Разве я сторож своему брату?
Предвидел ли Бог такое развитие событий, намекал ли на него странной фразой про грех у порога? В любом случае развязку Он видел, и потому обратился к Каину с вопросом, который можно было бы считать риторическим, учитывая Его всеведение. Ответ же Каина дерзок и уклончив. Здесь проявляется этический психологизм библейского рассказа: хотя никакого запрета на убийство человечество до сих пор не получало, герой сам чувствует свою виновность в смерти брата — первой смерти в истории — и пытается скрыться от Бога (и, вероятно, от себя самого).
В ответ Бог налагает на Каина проклятие, согласно которому земля «больше не будет давать ему свою силу», и тем назначает его «скитальцем и изгнанником». «Моя вина свыше простительного, — восклицает тогда Каин, — но <…> каждый, кто меня встретит, меня убьет!» (Быт 4:14). Рассказчика не волнует, что на земле в тот момент еще вовсе нет людей, кроме родителей Каина, — возможно, перед нами след добиблейской жизни этого текста, — скорее волнуют его переживания героя: первый убийца, осознав свое преступление перед Богом и человечеством, теперь боится, что и с ним могут поступить так же. Возможно, именно поэтому Каин спрячется впоследствии в собственном городе — это перекликается с позднейшей заповедью создать специальные города-убежища, где мог бы укрыться непреднамеренный убийца (Чис. 35:6–32). Считать Каина убийцей намеренным было бы, вероятно, слишком жестоко: на заре дней, незнакомый со смертью, он мог просто не рассчитать удара (иначе бы мы ожидали от Бога справедливого возмездия — смертной же казни). Смерть Каина, напротив, в библейском тексте отсутствует, как если бы он по сей день так и оставался наедине со своей совестью:
Ушел Каин от лица Господа, и стал жить скитальцем к востоку от Эдена [132].
Таким образом, перед нами рассказ, который вполне мог бы иметь содержание архаического мифа или мифологической протологии. С одной стороны, он фундирует в первобытном прошлом существующее сегодня разделение труда (и, соответственно, человечества) между скотоводами и земледельцами; более того, похоже, что симпатии авторов лежат скорее на стороне скотоводов (как и дальше евреи будут ассоциировать свое происхождение с кочевым образом жизни). С другой стороны, это может быть история о том, как кениты (странствующие кузнецы) получили свое начало от таких земледельцев, которым за их преступления земля перестала приносить урожай.
Наконец, с третьей стороны, за спиной нашего рассказа может стоять близнечный миф — история вражды между братьями. Такие мифы распространены в самых разных культурах. Более того, основание Каином города — пусть лишь некоторое время спустя — может напомнить нам мифологические сюжеты наподобие Ромула и Рема, где убийство брата выступает необходимым ритуальным основанием для строительства Рима. Однако в самом нашем рассказе смерть Авеля не нужна для чего-либо, она остается случайной, бессмысленной и необратимой.
Используя протологическую или мифологическую канву, авторы не делают никаких эксплицитных протологических выводов. Почти целиком рассказ сведен к диалогам между Творцом и Каином, в которых читателю является этический характер первого и сложное психологическое переживание второго. Красной нитью через них проходит тема греха и вины: в центре внимания — нравственный призыв, обращенный к человеку. И здесь архаическому мифу с его устремленностью к вселенской гармонии противостоит совершенно новый тип дискурса, гораздо более пессимистический: Авель не воскреснет, справедливость не восторжествует, но и Каин не обретет покоя; тем самым у самого начала истории человечества зияет явление греха. Жизнь на земле начинается с катастрофы, повторяющей грехопадение, так что вся история в итоге видится в ее свете: человеческий мир для Библии лишен гармоничности, он бессмысленно зол и трагичен. Но именно поэтому он так остро нуждается в Боге, этический взгляд которого противостоял бы этому миру и противополагал бы ему невыполнимый, но желанный идеал.
Ознакомительная версия. Доступно 12 страниц из 59
Похожие книги на "Избушка на костях", Власова Ксения
Власова Ксения читать все книги автора по порядку
Власова Ксения - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.