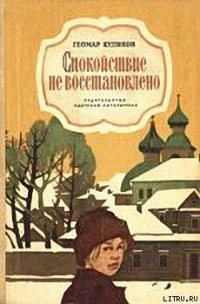Как крестьян делали отсталыми: Сельскохозяйственные кооперативы и аграрный вопрос в России 1861–1914 - Коцонис Янни
По крайней мере на почве опасностей «капитализма» экономисты и агрономы могли сойтись с «загнивающим» земельным дворянством. В разгар одной из множества словесных баталий между этими сторонами один из кооперативных журналов подчеркивал, что «общий враг у земства и кооператоров — капитализм, потому необходимо полное объединение земств и кооперативов в один союз для борьбы с капитализмом» [381]. Для профессионалов, мысливших исключительно категориями рациональности и порядка, дезорганизация и непоследовательность частной торговли сама по себе уже являлась вызовом, на который непременно нужно ответить, а риторика по поводу «эксплуатации» добавляла сюда и моральный аспект. Макаров протестовал против анархии, царившей в русской торговле, с ее тысячами мелких посредников, которые пытались сохранить неэффективные практики и сопротивлялись техническому прогрессу, исходящему от профессионалов [382]. Плодовитый экономист и теоретик кооперации А.А. Евдокимов декларировал, что в высшей степени «хаотическое состояние нашего внутреннего товарообмена одинаково разорительно как для земледельцев, так и для горожан потребителей. Оно доставляет выгоды лишь торговому посредничеству… и не пробьешься через эту цепь захвативших городской рынок спекулянтов». Активно оперируя государственными средствами, предстояло «ликвидировать» частных торговцев и заменить их кооперативами [383]. Государственные инструкторы маслоделен Сибири также защищали тот тезис, что хаотичность частного предпринимательства делает его несовместимым с «прогрессом», а следовательно, и с его носителями — профессионалами: «Деятельность инструкторов в деле улучшения техники маслоделия находит себе применение почти исключительно на товарищеских и общественных заводах; что касается частных, то здесь индефферентизм к улучшению производства обуславливается спекулятивным направлением промышленности, которое создает враждебное отношение частных заводчиков к инструкторам» [384].
Попытки оттеснить и маргинализировать частных предпринимателей и сопутствующее им убеждение в неспособности крестьян самостоятельно организовать собственное экономическое устройство, предполагали усиление роли государства и постоянное направляющее присутствие профессионала в деревне. На то, что такое положение вещей противоречит опыту других европейских стран [385], авторы официальных периодических изданий постоянно отвечали, что подъем кооперации в Дании, Нидерландах, Бельгии, Германии и Франции произошел благодаря активной совместной работе «государства и общества», а также тому, что ресурсы и экспертиза были переориентированы с мелких частных интересов на кооперативные. По словам одного из чиновников Министерства финансов, европейские государства сумели найти компенсацию недостаткам крестьян (как в области их способностей, так и в отношении их культурного уровня), и это оправдывало спорную в других отношениях политику насаждения крестьянской независимости кем-то извне: «Существенная же причина сравнительно слабого развития мелкого промышленного кредита у нас — непрочность, неустойчивость самих организаций, недостаток способности их самих бороться одними собственными силами против тех слабостей воли и духа, которым так легко поддаются массы и которые постоянно и неудержимо подтачивали дело мелкого кредита» [386]. Успешная подача Д.И. Деларовым заявления в ГУЗиЗ на получение большой субсидии для Вологодского сельскохозяйственного общества приводилась в пример в качестве оправдания темноты и безграмотности — трюизм, который красноречивее всяких слов говорил об общей логике мышления различных групп образованного населения [387].
Как следует из вышеприведенных цитат, их авторы утверждают, что опасность для крестьянства исходит из самого села, а именно от тех крестьян, которые превратились в «капиталистических» эксплуататоров, а также, сплошь и рядом, и от тех, которые оказались слишком неразвиты, чтобы приспособиться к новым экономическим отношениям. Официальные постановления, предназначенные направлять деятельность местных учреждений и агентов, отражали эти доводы. Типичным в этой связи было решение Центрального комитета по мелкому кредиту в Петербурге, который в 1912 г. сделал выговор Олонецкому губернскому кредитному комитету за предоставление ссуд сословным и сельским банкам. Министр финансов писал, что уже устоявшаяся практика состоит в поддержке только кооперативных товариществ, поскольку те позволяют внешним учреждениям и компетентным профессионалам планировать свою работу и наблюдать за тем, как крестьяне справляются с новым делом. Вкладчиками сословных банков являлись все представители крестьянского сословия (или все деревенские жители) в районе операций этих банков, и потому в них не было отбора клиентов и необходимости делить их по профессиональным группам. Также не имелось возможности гарантировать, что руководители данных учреждений ведут дела разумно и согласно закону. Отвечая на возражения о том, что сословные банки «изолируют крестьянина» от «вредных влияний» чужаков, комитет в заключение сделал заявление, в котором четко выразилась куда более масштабная трансформация присущего образованным группам способа понимания самого «крестьянства», «такое нежелательное влияние может появиться со стороны самих крестьян»: его оказывают торговцы, кулаки и крестьянские власти при невежестве остальной деревенской массы [388].
То, что из среды самих крестьян могли выходить их злейшие враги, было давно установлено в агрономической и экономической литературе, а традиционные сельские занятия наделялись новыми значениями и увязывались с новыми социально-экономическими категориями. Либеральный экономист Л.Н. Литошенко писал в брошюре о важности кооперативов в молочной промышленности, что бывшие молоконоши, продававшие когда-то продукцию как свою, так и своих соседей, теперь превратились в деревенских кулаков, приносящих тяжкий вред крестьянскому масломолочному производству [389]. Макаров, говоря приблизительно о том же, навешивал ярлыки более изящно: он называл владельцев небольшого количества скота, продававших излишки молочной продукции, «крестьянством», а тех, кто торговал более широко или управлял частными фермами или маслодельнями, — «торговцами» и «дельцами», если даже те были местными жителями и представителями крестьянского сословия [390]. Брачный союз социологии и экономики был окончательно закреплен в работе Евдокимова, в которой «капиталистическим» экономическим функциям придавался социологический смысл, а различные виды кооперативов призывались к «борьбе» с ними: кредитные кооперативы должны были бороться с финансовым капиталом (деревенскими ростовщиками), сельскохозяйственные товарищества — с торговым капиталом (купцами), а потребительские кооперативы — с розничной торговлей (владельцами частных лавочек) [391].
Со стороны кажется невероятным отнесение жалкого деревенского разносчика, ломовика, лавочника или ростовщика к категории «капиталист», но кооперативные деятели и теоретики вполне могли рассматривать бедность и неорганизованность деревенских «капиталистов» как повод для самовосхваления, а не для переосмысления своих предположений. Они считали, что если эти фигуры пока еще и не были сознательными и организованными капиталистами, представляющими монолитную капиталистическую систему, то исторический опыт Запада указывал, что в один прекрасный день они станут таковыми. Прошлое Запада считалось будущим России. Один из ораторов Областного съезда агрономов и земских деятелей Юга России, проходившего в 1910 г., утверждал, что способность заглядывать в будущее давала земствам и государству право уничтожить «спекулянтов» и превращала это право в «обязанность» [392]. Один из участников совещания инструкторов молочного производства в Сибири в своем выступлении отмечал, что именно слабость частного предпринимательства вынуждает кооперативы ликвидировать такого рода деятельность в превентивном порядке. Наше счастье, говорил он, что торговцы разрозненны, но среди них может возникнуть объединитель. Если сейчас упустить возможность отогнать тех, кто хочет разрушить кооперативы, то надо заранее принять вероятность того, что артели будут ликвидированы и перейдут в руки частных дельцов [393].
Похожие книги на "Как крестьян делали отсталыми: Сельскохозяйственные кооперативы и аграрный вопрос в России 1861–1914", Коцонис Янни
Коцонис Янни читать все книги автора по порядку
Коцонис Янни - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.