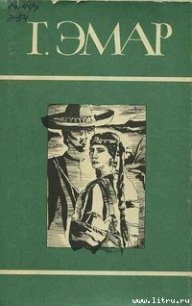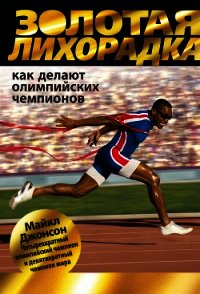Золотая лихорадка. Урал. 19 век
Глава 1
Меня убил медведь на Полярном Урале.
А очнулся я под тёплым солнцем за полторы тысячи километров.
В девятнадцатом веке. В разгар золотой лихорадки.
Но я забегаю вперёд…
Тишина здесь особенная. Не мертвая городская, зажатая между бетонных коробок. Настоящая — та, что звенит в ушах после того, как глохнет дизель моего «ТРЭКОЛа». Каждый шорох, каждый треск ветки — целое событие. На Полярном Урале тишина — главный хозяин. А мы всего лишь гости.
Костер выхватывал из сумрака три фигуры. Меня на рассохшемся бревне. Напротив — Петровича, геолога старой закалки с лицом, похожим на карту этих гор: морщинистым, обветренным, нечитаемым для новичка. И Витьку, молодого аспиранта с горящими глазами и городским идеализмом, который еще не выветрился.
— Душевно, — выдохнул Петрович, отхлебывая чай, от которого пар шел, как из печной трубы.
— После двенадцати часов по… этому, — Витька запнулся, ища цензурное слово, — любое ровное место кажется раем.
Я усмехнулся в бороду. Дорога. Смешной. То, по чему мы сегодня продирались на моем шестиколесном «Звере», даже звериной тропой назвать язык не поворачивался. Каменные реки, что ворочались под колесами, как живые. Ледяные броды, грозящие залить движок. Мой «ТРЭКОЛ» ревел, пыхтел, но лез. Это его работа. А моя — доставлять таких вот романтиков в задницу мира.
— Ты, парень, настоящих дорог еще не видел, — пробасил я, швыряя в огонь сухую сосновую лапу. Он сожрал ее мгновенно, с жадным шипением, окатив нас волной смолистого духа. — Вот когда под тобой хлюпает болото, готовое поглотить тебя вместе с потрохами, а впереди еще сотня километров такой же радости — вот это дорога. А сегодня была так — легкая разминка.
Петрович одобрительно крякнул. Он-то знал. Не первый сезон вместе топчем эту землю. Он видел во мне не простого водилу, а часть этого пейзажа. Того, кто чует, где под снегом прячется трещина, а где под мхом — гиблое место.
— Андрей прав, — сказал он, глядя на аспиранта, как на неразумное дитя. — Север ошибок не прощает. Он как красивая баба — манит, обещает, а зазеваешься — подомнёт, сожрет и косточек не выплюнет.
Разговор потек лениво, как смола. Пробы грунта, завтрашний маршрут, отменная тушенка. Я молчал, слушал. После армейки и трех лет фельдшером в скорой, эта вольная жизнь была как наркотик. Никаких начальников, никаких бабок с давлением в три часа ночи. Только ты, машина и эта первобытная, равнодушная к тебе красота.
Солнце рухнуло за щербатый хребет. На иссиня-черный бархат неба кто-то сыпанул пригоршню колотых алмазов — звезд.
— Жутковато, — вдруг ляпнул Витька, поежившись. — Тишина давит.
— Привыкнешь, — буркнул я. — Главное, от костра не отходить. Хозяин шастает.
— Медведь? — в глазах пацана смешался страх и щенячий восторг.
— Он самый, — подтвердил Петрович. — Сейчас злой. Голодный. Ему что лось, что геолог — просто белок на двух ногах.
Я похлопал по карману, где лежал тяжелый цилиндр фальшфейера. Не оружие, конечно, но иногда спасает.
— Штука ненадежная, — покачал я головой, перехватив их взгляды. — Одного отпугнет, другого только разозлит. Как пьяного в кабаке. Лучшая защита — своя голова на плечах. И не совать ее, куда не просят.
Мы замолчали. И в этой тишине я его услышал.
ХРУСТЬ.
Громко. Четко. Так ломается толстая сухая ветка под чем-то неимоверно тяжелым. Слишком близко. Прямо за границей света.
Мы замерли. Три статуи у догорающего костра. Я плавно, миллиметр за миллиметром, потянул руку к карману. Сердце из груди переехало в глотку и забилось там, мешая дышать.
Из темноты донеслось рычание. Низкое, утробное, от которого кровь стынет в жилах. А потом ударил запах. Смрад мокрой псины, гнили и тухлого мяса. Запах большого, голодного зверя.
— В машину… — прошептал я, не отрывая взгляда от черноты. — Медленно. Спиной не поворачиваться…
Поздно.
Тьма раздвинулась, и на поляну вывалилась смерть. Бурая, косматая, неправдоподобно огромная. Ребра торчат сквозь свалявшуюся шерсть, а в маленьких глазках-бусинках плещется голодная ярость. Медведь. Самый страшный зверь тайги.
Он встал на задние лапы, заслоняя звезды. И в этот миг все мои знания о выживании превратились в прах. Нет времени думать. Нет времени бояться. Есть только инстинкт.
— НАЗАД! — заорал я, срывая чеку с фальшфейера.
Хлопок! В руке вспыхнул ослепительный магниевый факел. Адский красный свет залил поляну, выжигая на сетчатке перекошенное ужасом лицо Витьки и морду зверя.
Он не испугался. Он взбесился.
Рев, от которого, казалось, задрожали сосны. И он бросился. Не на геологов. На меня. На источник боли и света.
Последнее, что я помню — летящая на меня гора мышц и меха, распахнутая пасть с желтыми клыками и удар. Удар, от которого мир взорвался болью. Я почувствовал, как трещат ребра, как когти рвут грудь. Фальшфейер, шипя, покатился по земле, заливая кровавым светом эту бойню.
А потом свет погас.
* * *
Я очнулся от запаха теплой хвои. И боли не было.
Первая мысль была до идиотизма простой: «Живой».
Вторая — полным бредом. Боли не было. Совсем. Я сел, лихорадочно ощупывая себя. Куртка и свитер — в клочья. На груди зияет дыра. Но кожа под ней… целая. Ни царапины. Ни капли крови. Только тупая ломота во всем теле, будто меня долго пинали.
«Шок», — подсказал мозг фельдшера. — «Адреналин. Раны не чувствуешь».
Я встал. Ноги-вареные, но держат. Огляделся. И холодок пополз по спине.
Я был один.
Ни костра. Ни моего «Зверя». Ни Петровича с Витькой. Вокруг стоял густой, чужой лес. Высоченные сосны-мачты, чуть дальше белоствольные березы, густой подлесок. Ни следа нашего лагеря.
— Петрович! — голос сорвался на хрип. — Витька!
Ответил только ветер в листве.
Паника начала душить. Что за черт? Меня эвакуировали? Но почему бросили здесь одного, в рванье? Где вещи? Где спутниковый телефон?
Я сделал шаг и провалился в мягкий, пружинящий мох. Воздух… он был другим. Не резким, кристальным и холодным, как на Полярном Урале. А теплым, густым, пахнущим грибами и прелой листвой. И деревья… они были слишком живыми. Не искалеченные ветрами уродцы, а лесные гиганты.
Я продрался к ручью, напился ледяной воды и посмотрел на свое отражение. То же лицо, заросшее, с парой царапин.
Где я, твою мать?
Я залез на холм, чтобы осмотреться. И то, что я увидел, заставило меня забыть о медведе.
Я не узнавал эти места. Но общие очертания холмов, высота деревьев, изгиб далекой реки… Это был Средний Урал.
Невозможно. Категорически. Между нашим лагерем и этим местом — тысячи полторы километров по прямой. Неделя пути на вездеходе. А тут — один удар медвежьей лапы.
«Кома. Глюки под морфием», — пытался я убедить себя. Но мир был слишком настоящим. Ветер ерошил волосы. Пчела гудела над цветком.
Так не бывает.
Весь день я шел на юг, и с каждым шагом чувство неправильности нарастало. Ни дорог. Ни ЛЭП. Ни единого инверсионного следа от самолета в небе. За весь день. В районе, где они должны чертить небо каждые полчаса.
К вечеру я забился в скальную нишу, развел костер из уцелевшей зажигалки. Лег на лапник и уставился в темнеющее небо. Ждал.
И вот они зажглись. Звезды. Миллиарды. Яркие, наглые, как осколки стекла на черном бархате. Я смотрел час. Другой.
Ничего.
Ни одной ползущей точки спутника. Ни МКС. Ничего. Небо было девственно чистым. Таким, каким оно не было с 1957 года.
И тут до меня дошло. Не как мысль. Как удар под дых.