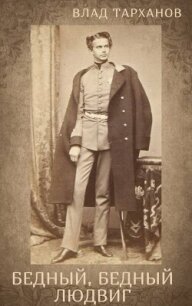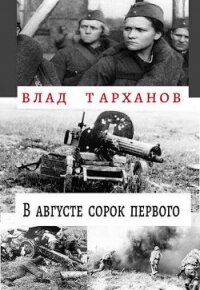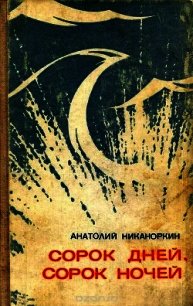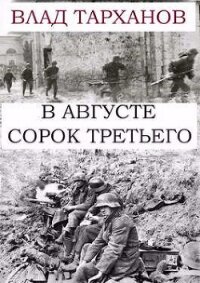Я – король Баварии – 2. ((Не самый бедный Людвиг)) (СИ) - Тарханов Влад
Глава шестьдесят шестая
Раздумья у окна
Санкт-Петербург, Зимний дворец
14 октября 1863 года
Император Александр Николаевич Романов пребывал в смятении. Всё дело было в довольно неудобном для него собеседнике, который только что покинул его рабочий кабинет: молоденьком короле Баварии Людвиге II Виттельсбахе. Парадокс самодержавия в России заключался в том, что, будучи абсолютным монархом, император не обладал абсолютной властью. Он вынужден был ориентироваться на так называемые «партии», которые в нашем, современном понятии, никакими партиями не являлись, скорее клубами или группами единомышленников, защищавших свои собственные интересы. Нет, в Санкт-Петербурге бурлила салонная жизнь, игравшая большую роль в формировании того, что называют общественным мнением. И салоны были не только аристократическими, но и дворянскими. Начали появляться различные клубы, которые так же становились центрами кристаллизации общественной мысли. Но всё это пока что не породило партийные структуры с нормальными уставами, принципами работы, ибо не было самого главного — возможности реализации этой деятельности через официальную легальную структуру (парламент). А посему группировки, которые всё-таки государь называл партиями, боролись за влияние на императора — и небезуспешно.
Крымская война показала, что Россия безнадежно отстала от развитых промышленных стран, в первую очередь, Британии и Франции. Необходимость реформ стала столь очевидной, что в обществе даже самые замшелые консерваторы понимали необходимость перемен. А посему можно было сказать, что в империи существовали две большие партии: реформаторов и консерваторов. И вторая была весьма влиятельна, хотя вокруг государя наличествовало больше представителей первой группы. Влияние консерваторов нельзя было преуменьшить — в их руках оказалось достаточно рычагов воздействия, в первую очередь на российскую бюрократию, которая и являлась основной опорой (или упором) власти. И консервативная бюрократия уперлась и старалась саботировать реформы Александра. Император это чувствовал, но ничего поделать не мог. Ты ведь не станешь над головой каждого чиновника, не сможешь проконтролировать каждого письмоводителя или судью, дай Бог губернаторов удержать в узде!
И, тем не менее, главную реформу своего правление — освобождение крестьян от крепостного гнета император уже совершил. Вот только результатов пока не видел. Тех, на которые надеялся. Реформа была половинчатой, несовершенной, и стала компромиссом между реформаторами и консерваторами. И компромиссом весьма неудачным. Слишком зыбкую опору для преобразования общества выбрал государь. То, что хотели радикальные реформаторы (освобождение с землей без выкупа) претворить в жизнь было невозможно — тупо не хватало денег! Консерваторы склонялись к освобождению крестьян по английскому типу (огораживания) — то есть без земли[1]. Ибо у кого земля, у того и власть. Как ни странно, для развития промышленности, вариант консерваторов подходил лучше: появлялась дешевая свободная рабочая сила… Но только не в российской действительности, где земли много, где есть куда уйти и самозахватом получить кусок плодородной почвы. И куда девать такое внезапно возникшее огромное количество рабочих рук? В Англии были приняты законы против бродяжничества и потерявших землю йоменов просто вешали или заставляли работать за гроши на фабриках. Потому крестьян освободили с землей, но заставили ее выкупать. Получилось намного хуже, чем в любом из радикальных вариантов реформы.
Но если бы все было так просто и однозначно! На царя давили еще и традиционные группировки, финансируемые из-за рубежа, которые получали свое название от источника средств. Фактически, это были иностранные агенты влияния, среди них выделялись традиционно французская, английская, прусская (германская), австрийская партии. Часто возникала ситуация, когда один и тот же государственный муж фактически состоял в двух партиях. Сочетания консерватор-франкофил, или реформатор-англофил оказывались не столь уж и редкими в политическом зверинце империи. А вот с партией русофилов или патриотов дела обстояли хреново. Она существовала, но пока что влияния существенного не имела. При этом порой сочетались на первый взгляд несочитаемые вещи: русофил и англолюб (подумал и перекрестился). Например, видным англофилом справедливо считали сторонника либеральных реформ, великого князя Константина Николаевича, младшего брата царя. Бывший и уже покойный канцлер Нессельроде, будучи австрофилом, оставил в министерстве иностранных дел целую плеяду дипломатов, тесно сотрудничающих с Венойй. Значимыми франкофилами оставались графы Строгоновы, с их богатствами имеющими серьезный вес в империи. После поражения Берлина в войне против коалиции с участием России, пропрусская группировка пребывала в растерянности, посольство Второго Рейха активно занималось формированием своей партии (немецкой или германской, как хотите, так и называйте), но пока что в этом не преуспела. А вот французская и британская группы влияния изо всех сил старались разорвать союз Россия-Германия. Почему? Исполняли волю заказчиков, для которых возникновение сильной и единой Германии противоречило жизненным интересам. И в Париже, и в Лондоне всё больше понимали, что промышленный скачок Германии в союзе с Россией — это появление сильного конкурента, который отодвинет их доминирование не только в Европе, но и мире на задний план.
Император подошёл к окну. Со второго этажа открывался великолепный вид на Адмиралтейство. Александр любил стоя у окна рассматривать это строгое здание, в котором ковалось могущество российского флота. И тут же подумал о том, что могущества-то и нету! Полтора века от петровских реформ и строительства флота, который помог прорубить окно в Европу. И что? В Крымскую войну флот мужественно сам себя затопил. Лично Александр считал это позорищем, но тихо, про себя, не высказывая сие мнение вслух. Не потому, что боялся, а потому что иных флотоводцев у него нет. А Корнилов и Нахимов погибли на бастионах Севастополя. И кто остался? Не иметь военного флота в Чёрном море! Вот еще глупость! И поддержка Германской империи могла стать тем клином, который помешал бы создать новую европейскую коалицию против России. А баварский король в перспективе — германский император и с ним надо находить общий язык. Как хочется скорее открыть конверт! Хочется… и боязно одновременно. Что там на этот раз?
В прошлый было указание на одно месторождение золота что на Южном Урале, близ озера Светлого. Богатые металлом месторождения Карелии и указание на наличие магнитных металлических руд в районе Курска. Подчеркивалось важность совместного развития добычи угля в районе Юзовки и металла в районе Курска. Отправленные в эти места экспедиции подтвердили наличие там руд. Тем более, координаты и точки привязки указывались более чем точно. А еще месторождение меди в оренбуржских степях, золото и медь в казашских улусах. Медь в степи нашли. Неподалеку от Оренбурга, а вот в казахских степях среди кочевых улусов только лишь ищут. И старательно маскируют цели экспедиции от местных джигитов. Пока что в этом деле спешка не нужна.
И всё-таки, что на этот раз? Открывать? Или оставить это послание без ответа? Так как-то спокойнее будет. Но император прекрасно понимал, что любые сведения о возможных богатствах империи будут для него крайне ценными и полезными. На самом деле страна была бедна. Государь догадывался, что богатства ее используются неэффективно, но почему-то и богатств было не так уж и много. А реформы требовали денег. Много денег. Прошло время, когда без повеления российского императора ни одна пушка в Европе не могли чихнуть даже. Задумавшись, Александр взял со столика у окна пахитоску[2] и закурил, благо настольная зажигалка присутствовала тут же и с огнем проблем не возникало. Его отец, Николай I сам не курил и своим подданным всячески запрещал, а вот сын этой привычке предавался вполне открыто, при его дворе дымить табаком было модным. И это при том, что в шестидесятом году было запрещено курение в общественных местах, но исключительно с целью предотвращения пожаров. Надо сказать, что каждое утро императора начиналось с кальяна. Целая коллекция этих приспособлений наличествовала у русского самодержца. Кальяном государь боролся с проблемами с пищеварением. Медицина ЭТОГО времени искренне считала, что табачный дым — средство от множества заболеваний. Как говорится… ну-ну!
Похожие книги на "Я – король Баварии – 2. ((Не самый бедный Людвиг)) (СИ)", Тарханов Влад
Тарханов Влад читать все книги автора по порядку
Тарханов Влад - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.