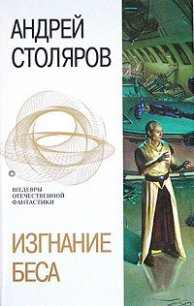Андрей Столяров
Копенгагенская интерпретация
Андрей Столяров
КОПЕНГАГЕНСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
Ночью ему снится Зимайло. Квадратная, как неуклюжий скворечник, башка плавает над трибуной. Торчат в обе стороны хрящеватые уши. Разевается пасть с желтизной редких зубов. Просто какой-то Хэллоуин. Таким только детей пугать. Зимайло по обыкновению вещает что-то о Достоевском. Оказывается, Федор Михайлович совсем не умел писать: неряшливые громоздкие фразы, наползающие друг на друга, мутный язык, вялый сюжет, ни таланта у человека, ни литературного вкуса. И вот, его почему-то читают, непрерывно печатают, монографии о нем создают, а он, Зимайло, пишет нисколько не хуже, такие же детективы, но вынужден издавать книги за свой счет.
– Ну почему, почему?..
Стон отчаяния в дурном оцепенении зала.
Да потому, что ты дурак набитый! – хочется крикнуть Маревину. Потому что законченный идиот! Двух слов не можешь связать!..
Он, однако, молчит. Бессмысленно спорить с тем, на кого еще во младенчестве, уронили утюг. Надо просто перетерпеть. Тем более что за длинным столом президиума сияет напыщенный, самодовольный Мурсанов, отдуваясь, попыхивая от счастья: как же, на почетном месте сидит, далее – преисполненный собственной значимости Залепович, вздернувший надо всеми приплюснутую черепашью голову. Тут же подсовывается к нему приторно-услужливая мордочка Паши Лемехова, чуть ли не вылизывая щеку начальства, что-то нашептывает, наверное, зазывает к себе на рюмочку чая. Ну и, конечно, угнездился по центру Виталя, пардон, наш непотопляемый Виталий Григорьевич, – плоская, масляная физиономия, словно сковорода в комках застывшего жира.
От одного их вида Маревину становится дурно. Но одновременно и помогает: он выдирается из сонного оцепенения. Пошатываясь, выпрастывается из-под одеяла. Голова у него чугунная, как всегда после собраний в Союзе. Ирша однажды ему на это сказала: а вот не сиди на советах неправедных. Это же гумус, пахучий литературный компост, перепреет, тогда, может быть, сквозь него что-нибудь прорастет.
– Или не прорастет, – заметил Маревин.
– Или не прорастет. Там слишком много всяких ядовитых отходов.
И все-таки, с чего это вдруг Зимайло? Почему поднялся со дна подсознания темный удушливый ил? Или это такое предупреждение? Ведь Зимайло погиб… уже сколько?.. дней десять назад. Схлопнулась очередная Проталина, не успел выбраться из своего занюханного… кажется… Сертопольска… Черт, не вспомнить, куда его там запихали!.. Бедный, бедный, вероятно, что-то такое предчувствовал, яростно требовал, чтобы его направили хотя бы в Ростов, по слухам, взбесился, устроил Зинаиде истерику, грандиозный скандал, чуть ли не разрыдался по бабьи. В Ростов, тем не менее, поехал Сева Клещук…
Тоже – нисколько не лучше.
Маревину не хочется думать об этом. У него сейчас совершенно другие проблемы. Он, умываясь, с силой растирает лицо. Он даже подрагивает от нетерпения, будто на старте, ожидая сигнального выстрела пистолета. Включает электрочайник, который начинает низко, как шмель, натужно гудеть, всыпает в стакан три полных ложки растворимого кофе, добавляет туда же три ложки сахара, «белую смерть», заливает примерно до четверти горячей водой. Вкус и запах у этой бурды суррогатный. Зато действие термоядерное – жесткой щеткой проводят по извилинам мозга. Кажется, он начинает что-то соображать. Уже рассвело, сад, в неге от ночного дождя, тих и прозрачен. Окутывает его утреннее парная туманность. Из окон, сквозь невесомые стекла видно, как лохмами яростных солнц пылают на клумбе багрово-фиолетовые георгины.
Сразу три крупных цветка.
Видимо, распустились за ночь
Умиротворяющая картина.
По ней не скажешь, что город покачивается на краю черной бездны.
Что жить ему осталось всего ничего.
Впрочем, это еще неизвестно.
Он просматривает местные новости. Марьяна, рыжая эта, которая бесчисленное количество раз пыталась взять у него интервью, приподнятым голосом извещает, что, согласно сведениям, полученным со станции аэронаблюдения, Проталина вокруг города фрагментировалась на изолированные отрезки. Говоря проще, распалась на части, общая протяженность ее уменьшилась примерно наполовину. Сейчас эти сведения проверяются. Вместе с тем, по сообщениям граждан, которые звонят к нам в студию, открылись дороги к вокзалу, по крайней мере с юго-западной его стороны и даже – к Никольскому с выходом на Сибирский тракт. Возможно, блокада завершена. Пока неизвестно, связано ли это со вчерашним … э-э-э… культурным мероприятием, но администрация города просит всех соблюдать выдержку и спокойствие. В нашей студии мэр Красовска Терентий Иванович Елтух…
На экране всплывает помятая физиономия мэра, который обеими ладонями торопливо приглаживает встопорщенные гребни волос по бокам головы. Судя по виду, ввалился сюда в последний момент.
– Дорогие сограждане…
Ну, это можно не слушать. Тем более что, как бы Маревин ни сдерживался, но на него все же накатывается вчерашняя, обжигающая волна: звуки становятся громче, свет ярче, очертания предметов контрастнее, словно просачиваются они из той же вулканической кульминации, когда вспыхнула, соединившись с вечностью, космическая темнота, когда вдруг просияли звезды, окатив неземным бледным сполохом зрительный зал, когда замерли в обмороке сердца, и ангел, взмахивая полупрозрачными крыльями, взлетел над сценой, как призрак, рожденный небытием. Контрастный свет утра – это своего рода, знак. А распустившиеся свеженькие георгины – тем более. Значит, Проталина действительно начала фрагментироваться? Жизнь возрождается? Не до мэра ему сейчас. Сердце, будто анкер часов, постукивает внутри: быстрее, быстрее!
Вот, кстати, и сотовый телефон заработал. Ничего себе, с трех ночи накопилось почти четыре десятка звонков. Он сразу видит, что несколько, идущих подряд, это от Терентия Ивановича, то есть от мэра, парочка, что естественно, от Леонида, тоже, видимо, возбудился, прослушав последние новости, штук пять от Дарины, ну это понятно, а незнакомые, целая вереница, от журналистов, которые жаждут получить комментарии, – стирает их все, телефон вновь отключает. Хорошо, что вчера перед сном он выдернул вилку стационарного гостиничного аппарата.
Замучили бы, спать бы не дали.
Но как, однако, стучит анкер внутри!
Через десять минут, выведя из хозяйственной пристройки велосипед, он неуверенно, давно, черт возьми, не садился в седло, едет по асфальтовому покрытию, именуемому Вязовой улицей. Вязы здесь мощные, раскидистые, посаженные бог знает когда, узорчатые их тени, перекрывают улицу на всю ее ширину. А между ними – кусты боярышника, осыпанные красными ягодами. От этого тихость утра кажется особенно напряженной. Слышен лишь шелест шин, поскрипывание толстой пружины, амортизатора под сиденьем, мерное, металлическое побрякивание педалей. Более ничего – ни звука, ни шороха, ни движения. И дело тут, конечно, не в вязах и не в боярышнике, просто дома, кремовые двухэтажные особнячки по обе стороны трассы стоят пустые: светлыми бельмами взирают отовсюду закругленные окна, на подъездных дорожках, в чашах иссохших фонтанчиков скопилась листва. Кругом – заброшенность, оцепенение. Маревин, возможно, единственный, кто сейчас на этой улице обитает. Остальные эвакуировались, говоря проще, сбежали. По ночам неприятно: его так же, как несколько дней назад, когда после очередного бестолкового совещания, он стоял, ослепленный солнцем заката, перед зданием мэрии, пронзает ясное ощущение, что вокруг нет вообще никого, что он – последний человек в этом городе, последний человек на земле.
Тем более что на проспекте, куда аллея сворачивает, ситуация примерно такая же. Прохожие, правда, здесь появляются: вторник, без четверти девять, торопятся на работу, но, даже специально не вглядываясь, он видит, что лица у многих по-прежнему бледные, словно вымоченные в воде, глаза – серые, почти без зрачков, как желток вываренного яйца. К счастью, не у всех, не у всех. Да и движутся они несколько оживленнее. Или ему только кажется? Вот наконец и кафе «У Лары». Желтую ленту полицейского ограждения с него уже сняли, но дверь заперта, внутри, судя по стеклам-витринам, сумеречная пустота. Или нет? Угадываются какие-то тени движений. У Маревина пробегают по позвоночнику вверх ледяные мурашки. Неужели еще один мерзкий паук выполз из тьмы, сейчас опутывает кафе паутиной – поджидает жертву, шевелит суставчатыми крючковатыми лапами? Паук-людоед в центре города. Он резко выворачивает голову, чтоб посмотреть. Велосипед тут же виляет, шаркает колесом о поребрик. Руки судорожно фиксируют руль. Не грохнуться бы на асфальт посередине проспекта.