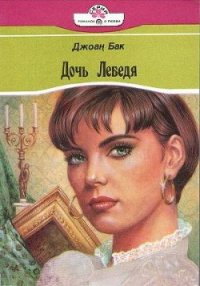Китаянка на картине - Толозан Флоренс
Вот каково это — становиться взрослым, утрачивать часть невинности, отдавать себе отчет в том, что настанет день, когда мы состаримся, а потом и совсем исчезнем.
* * *
Я вспоминаю. Аромат жареной курицы по воскресеньям. Телефон, который искали по шнуру, с тех пор как Элина стала уединяться, чтобы перезваниваться с подругами. Дырочки циферблата, чтобы набирать номер в телефонных кабинках за мелкие монетки. Сетка на телеэкране, когда передачи прерывались, и жеманные дикторы. Мультсериал «Чернушка». Фиксатор двери красного Renault 4L — я подражал его писку, играя в шофера на заднем сиденье, — черный кожзаменитель так нагревало солнце, что к нему летом приклеивались ягодицы. Тот миг, когда я с ликованием осознал, что могу долго плыть брассом не отдыхая. Пляжный зонт с бахромой. Мой плеер. Оранжевый, да. Оранжевый. Как Казимир! [25] Мой американский ранец, с которым я бегал в коллеж. Вкус попкорна, потрескивающего на языке…
Воспоминания следуют одно за другим, картинки ускоряются, как в кино. Потом — стоп-кадр: мне снова пять, я на коленях перед биде, полным до краев водой, я любуюсь плавающими в ней детальками разобранных мною часов, которые Элине только что подарили по случаю ее первого причастия. Меня заворожил великолепный танец латуни и стали — его выплясывали зубчатые колесики, веночки шестеренок, барабанчики, пружинки и разные винтики-шпунтики, вращавшиеся в водовороте — он возникал, когда я пальцем мутил поверхность воды. Я не услышал, как вошла Элина, но по ее пронзительным воплям понял весь масштаб нанесенного мной ущерба. Трепка, заданная мне, это подтвердила.
Я с поразительной точностью помню минуту, когда он подарил мне часы.
Я всегда видел их у него на руке. Он постоянно их носил. От этой картины, столь же четкой, как и во времена детства, меня неудержимо тянет заплакать.
Обрушиваются воспоминания. Гигантской волной.
Это было ровно в день моего двадцатилетия. Я как раз только что задул свечи на… тарте Татен [26], хорошо это помню. И настойчиво клянчил этот десерт у матери, которой он удавался на диво. Мне нравилось поливать его сверху сливками, чтобы смягчить чрезмерные сладость и кислоту четвертинок яблока.
Безудержная радость, на грани смущения, охватила меня, когда мой отец, в тот день благодушней обычного, встал, расстегивая свои часы, знаком попросил меня дать ему руку и застегнул их уже на моем запястье. И все это — не проронив ни словечка. Он, мой папа, не был болтуном. Знал цену своему слову. И куда лучше обходился с цифрами. У него я и научился не говорить, только чтобы ничего не ляпнуть, и точно выбирать термины, которые приходится использовать.
Я подробнейше рассмотрел часы, теперь ставшие моими. Вдруг ниоткуда налетело сумрачное облачко, впрочем, быстро рассеявшееся: а достоин ли я такого дара?
На обороте стояла датировка: 1907. Моего отца еще и на свете-то не было.
А теперь я прихожу в ярость оттого, что не проявил любопытство и не задал вопросов, которые сейчас так терзают меня. Что означала эта дата? Кому принадлежали инициалы, выгравированные под ней, — большие буквы М и Ф курсивом, сплетенные вместе?
История этой уникальной вещицы ушла в небытие вместе с датой. Ad vitam aeternam [27].
А я — я бы хоть спросил его, как часы к нему попали…
Пытаюсь отогнать эти мысли, вновь открывшие рану — такую живую, что никак не зарубцуется, и я часто стараюсь не обращать на нее внимания, — чувствуя, что не в силах сопротивляться им. Тот панцирь, в какой я облачился после папиной смерти и внутри которого накрепко запер свою печаль, вдруг кажется мне слишком ненадежным. Горло сдавило так, что я едва могу глотать, я сжимаю зубы, сдерживая слезы, которые вот-вот хлынут ручьями. Страдание, глухое и подавленное, снова напоминает о себе, щекоча точку, хорошо знакомую мне, в животе.
Что происходит с нами, когда мы умерли? Мы исчезаем полностью, без следа? Или остается чуть-чуть больше того следа, какой мы оставляем в памяти тех, кого любили?
В первое время после ухода отца я ждал от него необъяснимых знаков, подтвердивших бы мне, что есть жизнь после смерти. Предметы, произвольно меняющие место. Светильник, зажигающийся сам по себе. Если моему плечу ни с того ни с сего становилось жарко — это на него легла его рука. Сны, в которых он обращался бы ко мне.
Ничего. Решительно ничего. Трагическая пустота.
Но ведь я чувствовал, что он рядом, здесь. Или это был чистейший плод моего воображения — как знать? Он был здесь. И я это знал. Не по тем знакам, которых я ждал, а по той новой энергетике, что росла внутри меня, по прибавившейся витальности, что вела меня по жизни, делала спокойней. Я не был полностью брошен. Я разговаривал с ним — ибо всякий знает: мертвые не уходят, они просто безмолвствуют. Я был уверен, что он слышит меня.
На некоторое время это помогло мне, на время скорби, полагаю. Потом это «присутствие» ушло на цыпочках. С ним ушла и наибольшая часть моей боли. Наибольшая… А то, что осталось, иногда навещает меня… вот как сейчас.
Неутолимый комок тревоги поселился у меня в груди. Я скрещиваю пальцы, чтобы только не пережить Мелисанду, когда мы станем очень, очень-очень старыми, такими, каких только можно себе вообразить.
Потому что я не смею даже представить, как буду дышать без нее. А ведь это когда-нибудь может случиться.
«Они угасли естественной смертью — во сне, в одну и ту же одну ночь… А нашли их ранним утром, обнявшихся и заснувших вечным сном».
Слова Лянь настигают меня с силой бумеранга. Мои нервы на пределе. «Папа, если ты можешь что-нибудь для меня сделать оттуда, где ты сейчас, если там ты меня слышишь и что-нибудь оттуда осуществимо, — умоляю тебя, как-нибудь скомбинируй, чтобы не наступил тот день, когда Мэл мне будет так же недоставать, как сейчас тебя… Слышишь, папа? Да ты ведь и сам знаешь — мне не оправиться, если она уйдет раньше меня».
Должно быть, Мелисанда почувствовала, что печаль моя, поднимаясь со дна души, вот-вот прорвется. Во сне она теснее прижалась ко мне, свернувшись клубочком, так что мы вошли друг в друга, как точные кусочки пазла.
Так же как и инициалы, выгравированные на обратной стороне моих часов и на камне моста через речку Ли.
М — это Мадлен, а Ф — Фердинанд.
Мэл открывает один глаз и еще крепче сжимает меня в объятии. Наши души разговаривают и прекрасно понимают друг друга. Связь между нами так прочна… и так очевидна. В сущности — как и та, что соединяла Мадлен и Фердинанда. Это хорошо видно на картине: ощущение так и рвется с холста. Его можно было заметить и у Лянь на фотографии в рамке. Безмятежность, которая излучает… счастье.
Когда что-нибудь обладает несокрушимой силой, его нельзя не заметить. Всегда так.
Во мне еще звучит замечание старой китаянки:
«Как они умели так любить друг друга, эти двое!»
Насколько заметна глубина нашего чувства, я уже успел приметить на тех редких фотоснимках, где мы позируем с Мэл. Как и у Мадлен с Фердинандом.
Теперь я размышляю о том, что у нас с той старой парой четыре общих элемента: любовь, триптих, часы и наша с ними схожесть.
Вынимаю брошь, которую Лянь украдкой сунула мне в карман, уже стоя на пороге.
— Возьмите, молодой человек, это вам, — шепнула она. — Вы ведь любите драконов, Гийом, не так ли?
— Откуда вы знаете?
— Догадаться нетрудно: ими очень увлекался Фердинанд — да, и он тоже.
Я рассматриваю брошь, нежно поглаживая жемчужину. Когда она дала мне ее, я сразу же оценил не только ее стоимость, но и бесценность сопутствовавших ей эмоций.
Мне захотелось поблагодарить Лянь. Слова застряли в горле. Не зная, что сказать, я долго стоял, обняв ее, при этом стараясь не слишком сильно сжимать ее хрупкое тельце.
Волнующе. Правда волнующе.
Кладу свою игрушку на прикроватный бамбуковый столик, в блюдце из китайского фарфора, по краешкам выщербленное.
Похожие книги на "Китаянка на картине", Толозан Флоренс
Толозан Флоренс читать все книги автора по порядку
Толозан Флоренс - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.