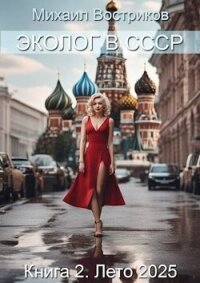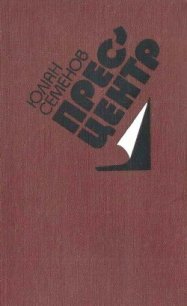Анатомия «кремлевского дела» - Красноперов Василий Макарович
Мухановой долго не выдавали постоянного пропуска в Кремль. В связи с этим она нервничала в такой степени, что у нее были на работе нервные припадки… Муханова постоянно пыталась нарушать правила пропуска в Кремль: пыталась пройти без предъявления пропуска, пробовала пройти по чужому пропуску. Когда нам был запрещен проход через Троицкие ворота, она попыталась все же пройти там, сказав мне, что у ворот дежурит ее знакомый, который ее пропустит… Вспоминаю эпизод, который показывает, что Мухановой, по‐видимому, очень хотелось побывать в комендатуре: пропуска для сотрудников выдаются обычно работником комендатуры, который для этого специально приходит в помещение Секретариата Президиума ЦИК. Не успевшие получить должны были по существовавшему тогда порядку сами обращаться в комендатуру. Муханова не получила пропуск у нас несмотря на то, что она имела к этому все возможности, и заявила заведующей библиотекой Соколовой, что ей нужно пойти в комендатуру. Когда я вместе с Соколовой стала удивляться, как это она не смогла получить пропуск в секретариате, Муханова, улучив момент, когда Соколова отвлеклась, зло сказала мне: “Молчите, не вмешивайтесь не в свое дело” [257].
Следователи, опираясь на полученные ранее показания Розенфельд и Мухановой и как можно сильнее запугивая подследственных, вынуждали библиотекарш признаваться в существовании контрреволюционной группы сотрудниц библиотеки, распространявших злонамеренную клевету. И как только получали, например, от Бураго показание о групповом обсуждении смерти Аллилуевой, тут же предъявляли его, скажем, З. И. Давыдовой (протокол от 7 марта 1935 года). Та, хоть и отрицала участие в таком обсуждении, но все равно под давлением следователей Кагана и Сидорова вынуждена была признать участие в “распространении клеветы” и свои “антисоветские настроения”. В протоколе это признание почти никак не акцентируется, но при внимательном прочтении видно, что именно в этот момент следователям удалось сломить сопротивление подследственной. Дальнейшие показания, зафиксированные в протоколе, явно не имеют ничего общего с действительностью. Давыдова, только что отрицавшая какую‐либо особую близость к Розенфельд и Мухановой, вдруг заговорила чекистскими штампами – Муханова и Розенфельд, дескать, знали о ее антисоветских настроениях и поэтому с готовностью раскрывали ей свои “контрреволюционные убеждения”. Беседы с ними, утверждала Зинаида Ивановна,
начались с передачи мне клеветнических сведений о руководстве партии и правительства. В дальнейшем и Розенфельд, и Муханова говорили о неправильности политики коммунистической партии и советской власти, о тяжелом, катастрофическом положении, в котором находится страна. Муханова говорила о тяжелом положении интеллигенции в Советском Союзе, о том, что интеллигенция угнетена, отстранена от какого‐либо творческого участия в жизни страны. Она постоянно проводила параллель между положением в Советском Союзе и за границей, причем ее выводы всегда сводились к оценке положения в Советском Союзе как гнетущее все живое, как тяжелое, близкое к катастрофе. Розенфельд особенно часто говорила о зажиме в партии, о том, что преследуются лучшие, талантливейшие люди, и приводила в пример Каменева. Общий вывод всех бесед Мухановой и Розенфельд со мной, к которому они все время возвращались, был тот, что во всем “виновен один человек”, что человек этот Сталин. И Муханова, и Розенфельд выражали постоянно в наших беседах злобно-враждебное отношение к Сталину [258].
Все это выглядит не более серьезно, чем “Союз меча и орала” Остапа Бендера, но вождь-читатель, видно, не жаловался на неправдоподобность – других “писателей” у него действительно не было. А “писатели” хоть в литературном плане и смотрелись бледновато, но основное дело свое знали, – пользуясь беспомощным состоянием своей “героини”, заставили ее признаться в том, что она была в курсе “террористических намерений” Мухановой и Розенфельд и помогала им в осуществлении теракта над Сталиным. Заключалась эта помощь в том, что Давыдова через секретаря Енукидзе Л. Н. Минервину якобы пыталась устроить “террористок” на работу в библиотеку Сталина. На самом деле, как будет видно из дальнейшего, это не вполне соответствовало действительности, но чекисты ухватились за тот факт, что Розенфельд вместе с Минервиной действительно подрабатывали в личной библиотеке сталинского фаворита Молотова. Таким образом, зафиксировав в протоколе попытки “террористок” получить доступ в квартиру Сталина, чекисты могли приниматься за конструирование версий покушения на вождя. Практически из ничего, из мелких кляуз и досужих разговоров в обеденные перерывы, чекисты за месяц с небольшим сумели выстроить фиктивный криминальный сюжет, который в конечном итоге привел десятки реальных людей к трагическому финалу. Конечно, сказалась общая обстановка, царившая в верхах, – вождь и его ближайшие подручные жили в замкнутом мирке постоянных интриг и борьбы с мнимыми врагами, которые нередко казались им вполне реальными. Эти настроения чекисты тщательно культивировали, поддерживая у партийной верхушки столь излюбленную ими “озлобленность” в отношении мнимых вредителей, диверсантов, белогвардейцев, оппозиционеров, контрреволюционеров и т. п. В таком режиме “органам” было легче, естественней существовать, функционировать и ощущать свою значимость. Сталину же этот режим нужен был для усиления единоличной власти – он получал хорошо отлаженный механизм, с помощью которого можно было устранить абсолютно любого соперника, настоящего или придуманного, приписав ему преступления, которые тот и не думал совершать. В этом смысле “кремлевское дело” являлось как бы демоверсией последующих открытых судебно-политических процессов. Конечно, возникло оно не на пустом месте, опыт в подобных фальсификациях у чекистов уже был. Например, “дело Демократического союза” 1928–1929 годов (поводом для которого стало убийство высокопоставленного военного Л. Г. Любарским, 18‐летним молодым человеком, не вполне здоровым психически) [259] или “дело монархической организации католиков” 1933–1934 годов (по которому 18‐летнюю студентку техникума Веру Крушельницкую [260], имевшую несчастье попасть в компанию “золотой молодежи” и познакомиться с сыном Ворошилова, обвинили в террористических намерениях из‐за того, что она бывала на даче и в кремлевской квартире Ворошилова и знала “местонахождение квартиры Сталина в Кремле и дачных местностях”). Или же дело арестованной в 1934 году “контрреволюционной группы анархистов” во главе с анархистом Ефимовым, который “в целях подготовки террористического акта над тов. Сталиным” связался с неким Кузьмой Карповичем Перепелкиным, заведующим архивом Секретариата ВЦИК, коего “пытался использовать для проникновения на работу в Кремль”. По утверждению чекистов, “Перепелкин снабдил Ефимова пропуском на одну из сессий ВЦИК, причем во время своего посещения Кремля Ефимов выяснил у Перепелкина, где расположена квартира тов. Сталина” [261]. Но все же в результате этих дел, как говорится, ни одно из высокопоставленных лиц не пострадало, включая представителей “золотой молодежи”. “Кремлевское” же дело было ориентировано одновременно против Л. Б. Каменева (бывшего оппозиционера) и А. С. Енукидзе (в оппозиции, как уже говорилось, никогда не состоявшего). Во многом энергичному его развороту способствовал не только прямой заказ Сталина, но и осознание “органами” своей неспособности правдоподобно “доказать” вину Каменева на только что прошедшем процессе “Московского центра” и желание взять реванш. К началу весны созрели первые плоды неустанной деятельности чекистов: 3 марта Енукидзе был снят с поста секретаря ЦИК СССР решением Политбюро [262], также предусматривавшим его назначение на должность председателя ЦИК Закавказской Федерации, каковой оставалось существовать чуть больше полутора лет – до вступления в силу новой Конституции СССР.
Похожие книги на "Связанные любовью", Рейли Кора
Рейли Кора читать все книги автора по порядку
Рейли Кора - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.