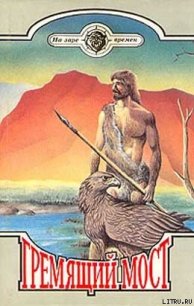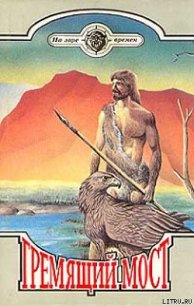Другая ветвь - Вун-Сун Еспер
Сань выше толстого врача, который измеряет его. От толстяка сладковато пахнет табаком, и при каждом движении он хмурит белый как мел лоб. Совсем близко лицо третьего врача, изрытое оспинами от крыльев широкого носа до ушей. Сань закрывает глаза, он стоит неподвижно, но когда один из врачей касается его косички, Лянь вскрикивает:
— Они ее отрежут!
По комнате проскакивает искра тревожного напряжения. Врач, стоящий перед Санем, мелко моргает, стражник делает шаг вперед. Сань чувствует, что вот-вот опрокинется назад, напрасно пробуя ощутить спиной косичку.
Пальцы касаются его спины, исследуют позвоночник, и вот косичка снова щекочет кожу между лопаток. Нетрудно заметить, как колотится сердце Саня.
Они просят Саня сесть на скамью. Клеенчатая обивка холодит между ног, через ягодицы холод проникает выше. Ему приходиться напрячься, чтобы подавить дрожь. Бесконечно долго они щупают и измеряют его череп, словно он — глина в их руках. И все это время они перехрюкиваются, а худой лысый врач записывает что-то на листке бумаги. Сань концентрируется на качестве бумаги, на том, как врач водит ручкой и как надавливает кистью руки вниз и наискосок. Слышно, как кончик пера царапает по бумаге. Тут до Саня доносится другой звук. Журчание, за которым следует специфический запах: Лянь обмочился. Лысый врач сердито хрюкает, но двое других смеются.
— К осени, времени металла, мы вернемся домой, — громко говорит Сань.
Лянь трижды шмыгает носом, но ничего не отвечает. Сань старается не смотреть на него — думает о голубоглазом мальчике, который висел на борту повозки и смеялся над ним, а потом пропал с криком.
Врачи поворачиваются к Саню, пока стражник подтирает пол за Ляпнем. Тот, у которого кожа в оспинах, прикладывает стетоскоп к груди Саня. Сань снова смотрит в окно. Чайка улетела. Остались белый свет и пламенеющая красным крыша. Можно ли нащупать скорбь, словно косичку, когда не знаешь, есть она или нет?
Врач снова хрюкает, стражник толкает Саня в шею, и он наклоняется вперед. Но ему велят наклониться еще ниже, словно актеру, сгибающемуся в преувеличенно глубоком поклоне перед публикой. Руки Саня вьпягивают вперед, это похоже на гимнастическое упражнение. Косичка скользит по его плечу, касается пола. Он думает об иронии образа китайца, согнутого, как бамбук, и тут его настигает шок: холодный металл, металлический вкус во рту, как будто именно туда что-то воткну ли, тошнота и неприятное ощущение качки, словно он снова в море.
«Мы или они», — сказал отец.
Они стояли на бойне. Отец только что вспорол брюхо свинье. В разделочном столе был вырублен желобок для стока крови. Кровь текла, будто вино, в таз, который Сань держал обеими руками.
Он далеко не сразу понял, что отец тогда говорил об иностранцах.
«Человека определяют две вещи, — продолжил отец и положил спутанный клубок серо-розовых свиных кишок в большое корыто, — нужды народа и собственная воля».
Обтер руки о передник и стал гонять глаза свиньи между толстыми короткими пальцами.
«Всегда смотри в оба», — закончил отец назидательно.
Когда он ушел, Сань взял один глаз и навел его на газетную страницу. Слова стали огромными и гротескно искривленными. Как весной, когда он вошел в Жемчужную реку и увидел свои ступни сквозь толщу воды — словно большие трепещущие крылья. Потом Сань поднял свиной глаз к лицу, будто монокль, и посмотрел вверх.
Мысли продолжали крутиться в голове. Сань видит свою жизнь как череду волн, набегающих на него с моря: вот мать стирает одежду в реке сосновой сажей; вот он мальчишкой ловит рыбу, играет в порту, наблюдает за иностранными моряками в кабаках; вот пропадают отец с братом, приходит зима с голодом и неизвестностью; вот он сидит, согнувшись над письменным столом; и, наконец, стоит здесь, нагнувшись вперед. У него брезжит догадка, что весь смысл в том, чтобы не потерять себя. Чтобы остаться человеком.
И тут он ловит себя на порыве дотянуться до своей одежды. Всего на расстоянии вытянутой руки в кармане халата лежит ее фотография. Он вспоминает ее лицо на фото. Ямочку на подбородке, застенчивую улыбку, сосредоточенный взгляд, чуть потревоженный легким движением зрачков, как будто что-то за пределами фотографии отвлекает ее. И Сань внезапно понимает, почему он оказался в больнице и что искал в щели по дороге сюда через Копенгаген. Он высматривал ее в каждой женской спине. Каждый раз, увидев клочок белой ткани или похожую прическу под зонтиком от солнца, он думал, что это она. Как будто она знала, что он находится в трясучей повозке. Как будто она знает, что сейчас он тут. Странным образом это делает его невыносимый позор выносимым и менее острым.
Он отмечает хрюкающий диалог врачей, так же как отмечает, что косичка скользит по полу, словно кисть по бумаге, и тут с удивлением обнаруживает, что боль, которую он чувствует, причиняет не унижение от того, что трое мужчин стоят, склонившись над его анусом, словно археологи над раскопом. На самом деле его чуть не выворачивает от тоски. Тоска прорастает сквозь его тело от прямой кишки через рот и тянется дальше, через крышу больницы и выше, к звездам. Что ему, в конце концов, известно о ней? Ничего. И все же он знает, что его тоска неземная и что он должен увидеть ее.
19
Ингеборг раздевается и приоткрывает окно в крыше. Она ложится в постель и кладет на грудь Библию.
— Ингеборг Даниэльсен, Ранцаусгаде, Копенгаген, — говорит она на пробу.
Вчера ей приснилась Генриетта, и сегодня Генриетта постоянно терлась около нее.
Ингеборг встает, зарывается лицом в рабочее платье и втягивает в себя воздух. Каждая нить пропитана запахом хлеба и подгоревшей выпечки, но пропахла ли одежда Генриеттой?
Она не знает, что на нее нашло, но она не могла не трогать Генриетту, дай ей волю, она бы ощупывала ее, словно мраморную статую. Целый день она находилась так близко к Генриетте, что чувствовала, как подмышки девушки становятся влажными и липкими, когда та отходит от печей или когда покупателей набегает так много, что образуется очередь. Ингеборг касалась ее бедром или же склонялась над Генриеттой, чтобы чувствовать запах ее пота. Делая это, она словно пьянела и теряла рассудок… как будто решением всех проблем было засунуть голову Генриетте под мышку!
Даже темнота теперь иная. Кусочек ночного неба в оконной раме. Ингеборг делает три шага. Ее голова словно колокол, колени как стеклянные. Она становится на них и нащупывает бумагу под кроватью — эта бумага будто из железа сделана. Дергает ее, листок надрывается и Ингеборг чуть не плачет. Она — бедная, она — женщина и она — не такая как все. Вот три не лучшие карты, выпавшие ей при рождении. Медленно, год за годом она осваивала их. На самом деле от нее требовались всего две вещи: подчиняться и работать как лошадь. Ингеборг начала работать с пяти лет. Она всегда чувствовала, что ей нужно быть проворнее и сильнее других. Вот почему она может поднять мешок с мукой, как взрослый подмастерье; может работать часами, после того как все остальные валятся от изнеможения. Вот почему ее руки могут без остановки возиться и в самой холодной, и в самой горячей воде. Но тут ее силы все равно недостаточно. Все не так. Другая бы написала, а ей придется выцарапать то, что она хочет написать, на бумаге.
Ингеборг ложится с листком на груди и вытягивает руки вдоль тела. Мысли скачут, как ночные мотыльки, мечущиеся от стены к стене. Она не может заснуть, потому что вчера ей приснилась Генриетта? Генриетта без одежды. А она сама касалась ее там. Проснулась, ничего не понимая. Села в постели и напомнила себе, что всегда считала Генриетту глупой и нисколько не красивой с ее-то вздернутым носом, выпуклыми глазами и вульгарным смехом.
Наверное, поэтому сегодня она целый день говорила с Генриеттой, хотя обычно делает все, чтобы не попасть в сети ее бесполезной болтовни. Хотела понять, в чем дело. Спрашивала и спрашивала, словно чужестранка, пытающаяся усвоить датские культуру и образ жизни, и Генриетта отвечала на все вопросы — от королевской семьи до цен на ведро угля.
Похожие книги на "Другая ветвь", Вун-Сун Еспер
Вун-Сун Еспер читать все книги автора по порядку
Вун-Сун Еспер - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.