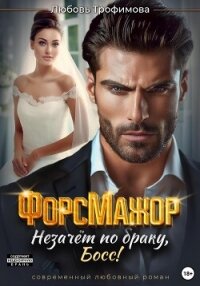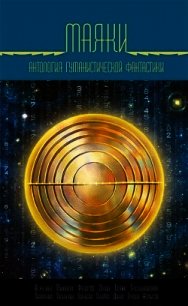Маяки Сахалина - Привезенцев Максим
В такие моменты одновременно чувствуешь и малость, и вес. Будто тебя нет – и всё же именно ты смотришь. Но теперь к этому ощущению добавилась жалость – тяжёлая, как налёт времени на его стенах. Маяк отдал всё, что имел. Его обобрали. Заколотили двери, чтобы другим было труднее добраться и увидеть.
Глядя на маяк, думалось о тех, кто держит свет в себе. Пока он греет – к тебе тянутся. Пока удивляешь – ты нужен. Но любой свет рано или поздно тускнеет, и люди уходят дальше, к другому огню. Те, кто светил ярче всех, стареют в тишине.
А вокруг – другой свет: экраны в поднятых руках. Мы снимали себя на фоне моря, отправляли сами себе в будущее доказательства, что были здесь. Я лишь задержался на секунду в стороне. Ветер трепал рукав мягко, будто прощаясь. Свет от облаков скользил по склонам.
Я уже видел это. Где-то. Так, как мог видеть только один человек – мой дед. Владимир Андреевич Привезенцев. Фронтовик, фотокор, документалист. Он оказался на Сахалине сразу после войны – не по зову сердца, а по ходу истории. Архивы потом скажут: он снимал жизнь. Люди скажут: он снимал страну. А он сам просто снимал.
У него были камера, штатив, тяжёлая сумка и привычка вставать раньше других. Он успевал поймать свет до того, как его размоет день, пока город ещё не шумел. В его архиве – всё: портовые крановщики, школьники на линейке, дальневосточные пейзажи, рабочие смены. И – маяки. Даже те, которых теперь нет. Он снимал не для славы – на всякий случай. На случай, если никто другой не запомнит.
Сахалин он вспоминал без сентиментальности. С теплотой – да. С сожалением – нет. Он знал: остров – это не место, а состояние. Чуть в стороне от большой земли, чуть медленнее, чуть тише. Как пауза между кадрами.
Когда выпала возможность – уехал. Переехал во Владимир. Стал корреспондентом центрального телевидения. Но больших фильмов больше не снял. Только репортажи. Только программа «Время». Только хроника.
Он не жаловался. Перестал говорить о будущем. Показывал прошлое.
Я передал его киноархив в сахалинский фонд. Там плёнки, где ещё живы маяки. Где тропы не заросли. Где свет скользит по линзам, по башням, по лицам. В этих кадрах – его любовь. Без слов. Без поз. Без титров.
Иногда маяк – это не тот, кто светит. А тот, кто снимает свет. Кто оставляет след – не ради вечности, а чтобы потом вспомнили, как это было. Может быть, мой путь – продолжение его. Только теперь я не за камерой. Я в кадре. И если он показывал картину мира, я пробую передать чувство.
Он не стал знаменитым. Но оставил то, чего уже не снимешь.
И, может быть, в этом и есть суть света.
Он не требует признания.
Он просто есть.
Позади щёлкнул объектив: Ник поймал ещё один ракурс. Он не просил позировать, просто останавливался и снимал.
Дима смеялся. Паша ругался на ветер. А я всё ещё стоял, прислушиваясь к тишине. Маяк хранил её. И я верил: дед понял бы это без слов.
Мы двинулись дальше – вдоль залива Терпения. Вода там знала больше, чем люди.
Следующим был Поронайский маяк – другой берег, другая тишина.
Маяки не ставят рядом. Между ними всегда есть расстояние.
Поронайск оказался противоположностью Горянки: полосатая чёрно-белая башня стояла у берега. Старше на двадцать лет, но казался бодрее. Его возводил в шестидесятых майор Шевелёв – тот самый, кто строил башни так, будто свет не имеет права гаснуть.
Издали маяк держался гордо. Вблизи трещины проступали явственнее, металл выцвел, но силуэт оставался прямым. Он по-прежнему стоял на посту.
Хотелось попасть внутрь. Но вокруг маяка тянулся высокий забор – не крепость, а напоминание о границе. Сквозь прутья уже угадывались силуэты и движение.
У калитки стоял смотритель. Лицо иссечено морщинами – следами ветра, соли, работы. Взгляд усталый, прямой. Сигарета тлела в пальцах, дым уходил к морю.
– Чего вам? – глаза скользнули по нам так, будто уже знали ответ.
В этом взгляде не было ни интереса, ни вражды – только равнодушие. Не человек, а закрытая дверь. На секунду захотелось развернуться. Но я сдержался, достал письмо с синей печатью областной администрации и протянул.
Взгляд упал на бумагу. Читать он её не стал.
– Не положено. Военный объект. Гражданские бумаги тут не канают.
Окурок вспыхнул и исчез под каблуком. Дверь за его спиной закрылась – конец разговора.
Мы остались снаружи. Поронайский маяк за забором был как своё, до чего не дотронешься. Чтобы не остаться совсем без материала, подняли в небо «fpv-пташку». Дрон завис на уровне крыши – пусть хотя бы он увидит то, что мы не сможем.
– Будет весело, если он сейчас с ружьём выйдет и начнёт по дрону шмалять, – сказал Аркан.
Мы засмеялись. Не потому, что смешно, а потому что иначе застываешь. Я представил, как смотритель стоит у окна и смотрит на нас. Возможно, для него это и было правильнее всего – сохранить границу.
Интересно, за кого он нас принял? За «блатных» рыбаков, которые, надышавшись вседозволенностью, решили устроить сафари на маяки? Или просто за лишних?
И всё же я не мог его осудить. Он хранил то, что ему доверили. В этом было больше правды, чем в нашем любопытстве. Горянка распахнулся и оказался пуст. Поронайск, напротив, закрылся – и, может быть, именно так сохранил себя.
Свет наружу не всегда спасает. Иногда тишина держит дольше.
– Поехали, – сказал я. – На сегодня маяки закончились.
– Не переживай, – Аркан подмигнул. – Мы тебе сейчас одно место покажем. Уверен, оценишь.
Дорожка вывела нас к тому самому месту, где широкая, метров двести, река Поронай впадает в залив.
– Любимое место здешних браконьеров, – тихо сказал Аркан. – Горбушу здесь бьют, когда идёт на нерест. А я просто приезжаю. На закат.
Место оказалось точкой покоя. Море уходило в горизонт – синее, глухое. Песок был тёмным, влажным, чуть плотнее обычного. Следы тянулись цепочкой – строки, которых никто не допишет.
С пляжа маяк виднелся отчётливо. Башня стояла на берегу, чуть в стороне. Почти рядом – и всё же за гранью. Будто говорила: вот я. Но не подходи.
Я смотрел и думал: может, Горянка ошибся, когда распахнулся? Может, не свет делает маяк маяком, а умение молчать?
И тогда, на этом фоне, всплыло другое лицо. Не башня – женщина. Для мира она была ничем. Для одного человека – маяком. Островок света посреди длинного одиночества.
Её звали Ирина Михайловна Каплан. Но у нас дома её называли просто: Капланиха. С уважением. С иронией. С любовью.
В её фамилии всегда звучала тень другой Каплан – той самой Фанни, что в 1918-м стреляла в Ленина и на всю жизнь превратила фамилию в чёрную метку. В Москве она могла быть клеймом, на Сахалине – поводом для шутки.
Она приехала на остров по распределению в 70-м. Экономист с красным дипломом, москвичка. В столице с такой фамилией карьеру не строили. В Сахалинском Госплане нашлось место. Скромное, но надёжное. За тридцать лет работы ей дали 16-метровую комнату в общежитии. Без кухни, но с окном. Правда, окно выходило не на Кремль, а на мусорные баки и снег.
Она была одна. Мужчины в её жизни появлялись, но, как она говорила, «только чтобы доказать, что одиночество – это благо». Зато в её комнате были книги. Много. Книги на полках, в стопках, под столом, в сумке. Пахло полированным деревом, кофе и лёгкой печалью.
С мамой они разговаривали о Москве. О театрах, книгах, пластинках. Слушали Высоцкого, пили красное и вспоминали то, чего не было. А потом смеялись. И тогда звучал мой любимый вопрос:
– Капланиха, ты зачем в Ленина стреляла?
Она умерла тихо. Во сне. В своей комнате. Так и не вернувшись в Москву. Так и не побывав там ни разу после того самого распределения. В её паспорте Москва значилась как место рождения. Но не как пункт назначения.
Иногда маяк – это не свет, а фамилия. Которая тебе дана, но с которой ты всё равно не туда плывёшь. И всё равно держишься. Не сдаёшься. Читаешь. Работаешь. И веришь, что смысл есть, даже если он прячется в строчках, которые перечитываешь по ночам.
Похожие книги на "Маяки Сахалина", Привезенцев Максим
Привезенцев Максим читать все книги автора по порядку
Привезенцев Максим - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.