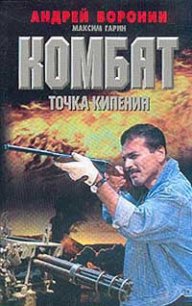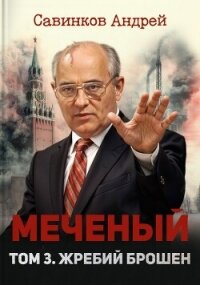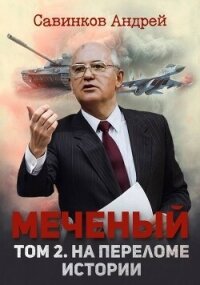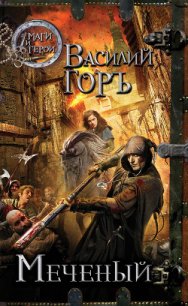Меченый. Том 4. Точка кипения (СИ) - Савинков Андрей Николаевич
— Любимая книга?
— Ну, это сложно. Но если мы говорим не просто об удовольствии от чтения, а и о неком философском наполнении, тем более в тему разговора, то пусть будут «Хищные вещи века» Стругацких.
— Интересный выбор.
— Тематический, я бы сказал. Описывающий следующий фазовый переход. Сначала мы перешли от нужды к достатку, а в книге описывается переход от достатка к изобилию и погребенной под этим изобилием пассионарности.
— Думаете, человечество всерьез может ждать описанные в книге проблемы? Наркотики, отсутствие всякой воли к развитию, духовный застой, моральная деградация.
— К сожалению, да. Те же наркотики. Очень неприятно это признавать, однако есть у нас в стране такая проблема.
На 1985 год в СССР официально стояло на учете около 50 тысяч наркоманов. Имеется в виду, конечно, «тяжелые наркотики», тех, кто иногда покуривал травку, мы тут не учитываем. Старт антиалкогольной кампании — хоть и в куда более легком виде, нежели это было в моей истории — несколько подстегнул «наркоманизацию» страны. Опять же, трафик опиатов из Афганистана полностью перекрыть у нас так и не получилось, несмотря на жесточайшие меры. Тех, кого ловили с большими партиями наркотиков, без всяких затей ставили к стенке. За прошедший 1986 год, например, количество приговоров к высшей мере, связанных с наркотиками, было больше ста пятидесяти штук. Или примерно 25% от всех расстрельных решений судов в СССР.
Так вот, едва мы начали большую кампанию по выявлению наркоманов в стране с массовыми анализами крови в школах, на предприятиях и в армии — особенно в армии, там и возраст подходящий, и контингент нередко специфический, состоящий из тех, кто не сумел поступить или еще как откосить от этого дела — тут же цифры полезли куда менее приятные. Только за один 1986 год в ходе массовых проверок было обнаружено и поставлено на учет около полумиллиона граждан, у кого в крови нашлись следы употребления запрещенных препаратов. И по здравому размышлению это число стоило бы умножить еще на два, а то и на три для полного понимания реальной статистики.
В принципе, даже эти полтора миллиона — или полпроцента от населения — показатель далеко не такой страшный. Например, только официальная статистика США давала 2% употребляющих наркотические средства в стране в эти годы, реальная статистика, как и у нас, могла отличаться в два или даже в три раза. Для понимания масштабов: во время эпидемии синтетических опиоидов в 20-е и 30-е годы XXI века моей истории там только официальный процент наркозависимых болтался в районе пяти.
Так что можно сказать, в СССР все было еще очень и очень легонько, что, с другой стороны, очевидно, совсем не повод бросать проблему на самотек. Выявленных наркоманов массово ставили на учет, обязывая сдавать кровь на анализы не реже раза в квартал. При повторном нахождении в организме запрещенки уже шли полноценные оргвыводы. Человек исключался из партии, комсомола, увольнялся с требующих ответственности должностей, выгонялся из вузов, в армии переводился в специально созданные для этого «особые» батальоны. Не дисбат, конечно, но тоже никакого удовольствия: с утра до вечера либо маршировать на плацу, либо копать траншеи. А потом закапывать — чтобы и под надзором солдат был, и к оружию доступа не имел. В будущем предполагалось, что анализы будут браться у всех призывников, и наркоманы вместо военной службы будут призываться на АГС, облик которой еще только формировался. Вместо полутора лет тренировок — на три года попасть в полувоенный стройотряд и уехать махать кайлом в Заполярье, причем не за деньги, как прочие вольнонаемные, а исключительно во исполнение долга перед Родиной — прекрасная перспектива, чтобы десять раз задуматься перед употреблением запрещенки.
А еще наркотики стали отличным средством давления на партийцев из нацреспублик. В первую очередь южных, конечно, поскольку и культурно, и географически — русский-то мужик все больше водочку предпочитал, а вот мусульмане на югах традиционно и другие вещества «уважали» — в Средней Азии и на Кавказе наркоманов было статистически куда больше. Ну как было пройти мимо такого рычага давления?
Осенью-зимой 1986–1987 года в отдельно взятой АзССР была проведена масштабная кампания по выявлению наркозависимых. Пробы крови брали у всех подряд — спасибо тебе, Господи, за советский «тоталитаризм», в «свободных странах» подобное провернуть было бы просто невозможно, — было проверено примерно 5 миллионов человек из 7-миллионного населения республики. О том, сколько это стоило бюджету СССР, говорить не будем, но результаты вышли максимально показательными. При том, что в 1985 году тут было зарегистрировано всего 3300 человек в качестве употребляющих запрещенные вещества, реальные цифры показали отличие в почти 20 раз, а именно 57 тысяч человек со следами наркотиков в крови.
Официально данные результаты нигде не публиковали, конечно же, однако и сделать вид, что все нормально у товарищей с солнечного Кавказа, тоже не получилось. Был поставлен вопрос по поводу соответствия местной партийной верхушки занимаемым должностям. Пока конкретные кадровые решения еще приняты не были — все же вот так просто снять с должностей несколько сотен представителей номенклатуры — это непросто даже чисто организационно, но дураку было понятно, что без последствий ситуация не останется. И да, по случайному совпадению, должностей рисковали лишиться почти все партийцы, состоящие в клане члена Политбюро Гейдара Алиева.
Вместо Кямрана Багирова я планировал направить в Баку первого секретаря Донецкого обкома КПУ, члена Политбюро КПУ Василия Петровича Миронова со своей командой «донецких». И опять получалось, что Горбачев как бы не русских на первые позиции толкает, а перемешивает республиканские кадры между собой, что на первый взгляд смотрелось чуть менее «великодержавно-шовинистически». А на второй — разницы между русским из Курска и русским из Донецка найти бы, наверное, не смог даже самый внимательный исследователь.
— Следующий вопрос, — ведущий повернулся лицом к камерам, — давайте послушаем, что интересует народ, вопрос от зрителей.
— Игорь Владимирович из ПГТ Зверево Тамбовской области спрашивает: Михаил Сергеевич, когда мы поймем, что коммунизм наконец к нам приближается, что станет первым знаком?
Познер повернулся ко мне, качнул головой, мол: «Вот это у нас народ задает вопросы», — и жестом предложил отвечать.
— Мне сложно отвечать на подобные вопросы. Я уже не раз говорил, что больше практикой занимался, чем теорией коммунизма… — Я тяжело вздохнул, мысленно перебирая в уме варианты. — Ну, пусть будет уменьшение рабочего времени.
— Интересный выбор, — прокомментировал мой ответ Познер.
— И тем не менее. Общеизвестно, что одним из главных достижений Октябрьской революции стало внедрение восьмичасового рабочего дня, причем не только в СССР, но и в капиталистических странах. Капиталисты посмотрели на наш пример и поняли, что нужно идти на уступки рабочим, иначе они получат революцию и у себя дома. Конечно, восемь часов рабочего дня — это прекрасно по сравнению с десятью часами или двенадцатью. Но давайте честно: даже в такой системе у человека остается не так много времени на жизнь. Если вычесть восемь часов на сон, время, необходимое, чтобы добраться до условного завода, вечером доехать обратно, и добавим час обеденного перерыва — остается часов пять суммарно. Минус время, необходимое, чтобы приготовить еду, убраться, сделать другие домашние дела… А жить когда? Когда отдыхать? Когда учиться, детей воспитывать? Развиваться духовно и физически в конце концов.
— И что, партия собирается сокращать рабочую неделю?
— Сейчас, к сожалению, нет, — я покачал головой, вероятно, вызвав этим движением немалое разочарование у многих тысяч зрителей, приникших к экрану телевизора. — Дело даже не в стоимости такого сокращения — мы же говорим про сокращение рабочей недели с сохранением заработка, то есть нагрузка на ФОТы возрастет, — деньги у государства есть. Дело в нехватке рабочих рук. Физической. Мы очень много строим сейчас, возводятся новые предприятия, улучшается инфраструктура, новые железные дороги тянутся от побережья до побережья. Приходится даже завозить трудящихся из дружественных стран. Но я надеюсь, что автоматизация и цифровизация помогут повысить производительность труда, и уже при моей жизни мы начнем понемногу давать людям больше времени на жизнь.
Похожие книги на "Меченый. Том 4. Точка кипения (СИ)", Савинков Андрей Николаевич
Савинков Андрей Николаевич читать все книги автора по порядку
Савинков Андрей Николаевич - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.