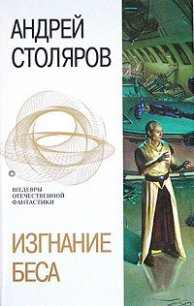Копенгагенская интерпретация - Столяров Андрей Михайлович
Однако мэр машет рукой.
– Я к тому, что, может быть, пронесет. Не все так страшно. … Извините, что перебил…
Полковник вновь переводит взгляд на Маревина.
– Москва – Москвой. Они там, конечно, решат. Но кое-что и от нас зависит.
Он умолкает.
В глазах – строгое ожидании
И тут же невысказанную мысль подхватывает, явно волнуясь, мэр:
– Андрей Петрович, мы очень рассчитываем на вас.
Опять молчание.
И опять оно поскрипывает как нависающая плита.
Маревину неловко сидеть в фокусе двух пар напряженных глаз.
Особенно у мэра – как у большой доброй собаки, которую наказали, а она не понимает за что.
Обиженное, почти детское недоумение.
За что? За что?
Они ждут ответа.
Но Маревин не знает, что им отвечать.
Разве что: вляпался – сам виноват.
В конце концов он неловко пожимает плечами:
– Сделаю все возможное, но… поймите меня… гарантировать не могу…
Позже Маревин не раз вспоминает это свое почти пророческое «гарантировать не могу», поскольку к концу недели становится ясно, что он находится в отчаянном, безнадежном ступоре. В творческом бессилии, расползающемся по телу как бледная немочь, как неощутимая, неведомая медицине болезнь, проникающая отравой в сердце и мозг. Именно что болезнь: он даже дышит с трудом, заставляя себя напрягать мышцы груди – дышит, но надышаться теплой августовской прелью не может, кислорода в ней нет, как ни растягивай до боли ячеистую ткань легких.
Собственно, обрушилось на него это еще весной, когда он закончил довольно странный роман, в котором Бог или Нечто, обладающее таким же могуществом, стало откликаться на молитвы людей, исполняя самые сокровенные их желания. И вот что из этого получилось: катастрофа, чуть ли не приведшая к гибели человечества – ведь человек в своих тайных страстях гораздо ближе к ненависти, чем к любви.
Девять месяцев он работал над этим романом как проклятый, знаменательный срок, получилось в итоге день в день, и все девять месяцев чувствовал себя, как на гребне волны, на хлипкой досочке, которая с сумасшедшей скоростью несется над водной стихией. Давно у него не было такого окрыляющего настроения, вкалывал ежедневно, по десять – двенадцать часов, вскакивал ночью, чтобы записать неожиданно вспыхнувший эпизод, или реплику, или характерный жест персонажа. Конечно, ел, пил, спал, с кем-то разговаривал, смотрел новости в интернете, сходил даже на пару каких-то вялых мероприятий. Но все это, как сквозь сон, – уже через час был не в состоянии вспомнить, с кем разговаривал, куда ходил. А когда написал последнюю фразу, о том, что облако, наползающее с горизонта, скрыло странную, мерцающую над кромкой леса, сиреневую звезду, не смог встать из-за головокружения – испугался, что сейчас упадет, как некогда Иннокентий Анненский на ступеньках Витебского вокзала: сердечный приступ, при жизни успел выпустить лишь небольшую книгу стихов под псевдонимом «Ник. Т-о». Правда, тогда вокзал назывался не Витебским, а Царскосельским…
В общем, обмяк на стуле медузой, слабость была чудовищная, до конца раскрутилась пружина, приводившая в движение механизм его личного бытия. И вместе с тем – ощущение, что наконец-то он написал нечто стоящее. Не шедевр, не бестселлер, не выдающееся произведение современной литературы, но нечто такое, что, возможно, пусть ненадолго, переживет его самого. Косвенным подтверждением послужило и то, что, когда после четырехдневных раздумий он послал рукопись в оборотистую «Астрею», Владику Тягодумову (хрен он моржовый, но работать умеет), то уже через неделю Владик сам ему позвонил и довольно кисло (автор должен знать свое место), кратенько сообщил, что роман ничего, приличный, жалко не в тренде, но рискнем, так уж и быть, в целом подходит, будем печатать, ориентировочный срок – на август.
Сначала казалось, что ничего страшного. В конце концов он же не Троллоп, который каждое утро, как заведенный, писал три часа и, если заканчивал книгу, а время от этих часов еще оставалось, не отдыхал, а начинал следующий роман. Маревин так не умел. Завершив какую-либо работу, он чувствовал себя как колодец, откуда вычерпали драгоценную влагу: обнажилось дно, проступил мелкий песок. И надо было не дергаться, не пытаться выдавить что-либо из него, а ждать, ждать, ждать, пока влага сама вновь накопится, просачиваясь по паутинным канальцам из запредельных глубин. Обычно так и происходило. Но здесь было нечто иное. Он это почувствовал к середине лета: песок на дне вычерпанного колодца стал мертво-сухим. Нечего было ждать. Не на что надеяться. Драгоценная влага более не проступала. Иссяк сам источник – на века, на тысячелетия воцарилась в душе Великая сушь…
Такое с ним уже было лет десять назад. Тогда, после целого рабочего дня, он, ни о чем подобном не подозревая, открыл только что вышедший из печати «Аркольский мост» Антоши Розальчука и точно в обморок провалился в кошмар бессмысленной и беспощадной войны, перемалывающей в кровавое месиво десятки, сотни тысяч людей. Сошло какое-то умопомрачение. Фразы пропитывали его темным воздухом чуть ли не до галлюцинаций: пучились взрывы, разметывая вокруг корку земли, метались и корчились персонажи, умирая неизвестно за что. Прочтя в три часа ночи строки финала, где последний солдат этой войны бросает в пропасть последний патрон, он включил компьютер (ведь тоже писал роман) и в оцепенении уставился на свой аккуратный, уже частично отредактированный текст. И тоже – жутковатым током ударило: это же не то, не то, совершенно не то! Даже близко не соотносится с тем, что он когда-то хотел. Где обжигающий подлинностью жизни рассказ? Где свечение магии, от которой при чтении прохватывает озноб? Цветаева однажды заметила: она всегда может определить, когда стихи ей продиктованы свыше, а когда она накалякала от себя. Так вот, все это, что на экране, все это он – от себя. Все эти буковки, сыпью покрывающие страницу. Все эти леденцами липнущие друг к другу, пресные, полуосмысленные слова. И предыдущий его роман был от себя, и три повести, выпущенные недавно как сборник – того же однообразного конвейерного пошива…
Короче, упало яблоко, звонко стукнув по темечку, разверзлись серые небеса, мир перевернулся с ног на голову. Тогда ему тоже стало трудно дышать: за грудиной неожиданно вырос булыжник размером с кулак, давил на нее изнутри. Из оцепенения его бросило в дрожь: ведь он же этим текстом своим ничего не сказал.
Прозрение вспыхнуло и превратило мозг в горячую кашу. Вероятно, совпало: до этого он через силу, позевывая, перелистал очередной роман Залеповича «Любовь к Элладе» – кстати, сразу же ему, роману этому, престижная премия, сразу тучи рецензий, критика захлебывается от похвал – а у Маревина в голове закрутилось: это просто ниочемизм! Термин выскочил быстрым чертиком и тут же прилип. Ниочемизм – это когда написано технически хорошо: и идея, и сюжет, и язык, все как надо, добросовестно, иначе не определишь, но за умело раскрашенной конструкцией – пустота. Аккуратно вылеплено из папье-маше. Нет того странного, восхитительного безумия, которое превращает литературу в искусство. Ремесло Залепович, как обычно, продемонстрировал: да, литературное мастерство несомненно, искусство – категорически нет. Этими четырьмястами ровненьких, отшлифованных редактурой страниц он, в сущности, ничего не сказал. Причем (ринулась, спотыкаясь, вдогонку вторая мысль), если автор все же что-нибудь говорит, то отнюдь не всегда удается определить, что именно он сказал – здесь возможны интерпретации. О чем сказал в «Войне и мире» Толстой? Да обо всем он сказал! То же – в «Братьях Карамазовых» или в «Бесах». Сразу чувствуется, что автор именно говорит. Зато если автору сказать нечего – в тексте тусклым колоколом гудит эта самая пустота. И ее никакими техническими ухищрениями не заглушить. Вон роман Саши Мурсанова, (тоже недавно прочел): «Дальновидящий» (так и чувствуется в названии горделивое надутие щек), открываешь – сплошные метафоры, по отдельности превосходные, и первая, и вторая, и третья, это вам не лемеховские талмуды, ворочающиеся унылым нытьем, но примерно на десятой метафоре начинаешь недоумевать – а где сам роман? Где он? Где? Покажите мне пальцем – где? И на двадцатой книгу с треском захлопываешь – ну его к богу в рай. Потому что роман – это не набор красивых метафор, не идея, как бы ни была она хороша, не фактура, не сюжет, не язык. Роман – это роман. Это энтелехия Аристотеля, сила жизни, объемлющая собой и цель, и окончательный результат, превращающая невзрачное семечко в роскошный цветок, это эмерджентность – свойство системы, не сводимое к сумме ее частей. Или проще – как заметил тот же Лев Николаевич, отличить подлинную литературу от ремесленничества можно так: если пересказать произведение во всех подробностях, до мельчайших деталей, вплоть до точек и запятых, и все равно нечто останется недосказанным, нечто такое, что невозможно пересказать, тогда – это роман.
Похожие книги на "Копенгагенская интерпретация", Столяров Андрей Михайлович
Столяров Андрей Михайлович читать все книги автора по порядку
Столяров Андрей Михайлович - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.