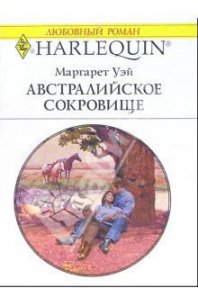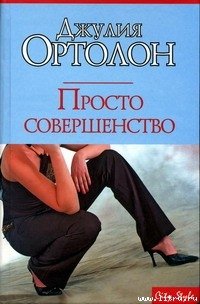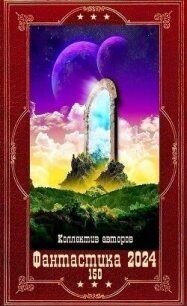Любовь, что медленно становится тобой - Кайоль Кристин
После несчастья, чтобы возить меня в больницу и к доктору Суню, мать была вынуждена покинуть пределы нашего квартала и оценила размеры Пекина. Для нее эти поездки были подобны путешествиям в чужие края. В свой лабиринт грязных улочек она возвращалась как на родину. Ее хутун был всем Китаем. А те места, что окружали Запретный город [16], как и моя мать, подвергались метаморфозам, на первый взгляд как будто вовсе не меняясь. В иных районах Пекин распускал хвост, словно павлин, и выглядел спокойным и уверенным в своей красоте, а в других уже чувствовалось приближение серьезных ремонтных работ на окружных дорогах, усиливающие его нервозность. Не говоря о важнейшем и в высшей степени политизированном проекте по другую сторону площади Тяньаньмэнь, где правительство запланировало строительство национального оперного театра. Здания вырастали будто из-под земли за считаные недели, и даже потрясающие бары появлялись за три дня вокруг продавленных диванов, курительных палочек, двух-трех бутылок «Джонни Уокера», стареньких электрогитар и изрядного количества пыли.
В соседнем хутуне однажды вечером парень лет двадцати, которого партнеры по игре называли «артистом», подставил свое обнаженное тело под пистолеты с черной тушью, превратившись на время перформанса, продолжавшегося четверть часа, в живой свиток каллиграфии. Соседи, испуганные его зловещими позами, боясь, что он одержим демонами, решили вызвать полицию. Не обращая никакого внимания на эти угрозы, возбужденные не столько своим импровизированным творением, сколько возможностью создать его вживую в сердце традиционного Пекина, в двух шагах от Запретного города, юные друзья-авангардисты продолжали экспериментировать. Двое полицейских, мирно поедавшие лапшу в нескольких метрах от происходящего, подошли не спеша и встали перед перформерами с удрученным видом. Медленно, устало и безрадостно они достали потрепанные бланки протоколов, решившись все же прекратить этот странный маскарад. Один из друзей артиста подошел к ним и протянул каждому по сигарете, непосредственно из рук в руки, в знак дружбы. Полицейские вздохнули и закурили, глядя на местных стариков, которые сидели на серых кирпичах, пристроив у ног свои клетки с птицами. Рождался новый мир, но прежний не собирался умирать. Здесь, в сердце переплетения улочек, еще помеченных стигматами страданий последних лет, между организованным контролем и стихийным доносительством, здесь, где четырехлетние дети играли в хунвейбинов со значками своих старших братьев, наконец высвобождалась новая энергия! Покуривая сигареты, полицейские беседовали со стариками о «старых добрых временах» и о Великом Кормчем [17]…
Потом шоу закончилось, и все разошлись по домам, отпуская разнообразные комментарии о происшедшем.
Возможным становилось все, абсолютно все. При условии, что под сомнение не будет ставиться народный порыв, что полиция еще сможет делать свою работу, а конфликт поколений не будет слишком глубоким. Предпринимать, пробовать, строить.
Нередко рестораны или предприятия закрывались так же быстро, как и открывались, потому что двадцатилетние юнцы, не учившиеся в школе, вообразили, что смогут ими управлять. Визитные карточки и титулы директора, президента, вице-директора, генерального секретаря множились, словно мухи на свежем мясе. Мы жили в смерче, взвихрившемся подспудно.
Эти потрясения тревожили маму. Да и как могло быть иначе? С каждым днем она все глубже погружалась в печаль, подточенную стыдом, и молча проклинала эти перемены, которые дяде, а стало быть, и мне, казались, однако, полными обещаний. Когда я приходил вечером домой и заставал ее ушедшей в свои мысли, склонившей голову над починкой штанов или стряпающей вместе с дедом лапшу к ужину, мне хотелось сказать ей: «Мама, я никогда тебя не оставлю, я всегда буду с тобой и постараюсь, чтобы тебе ничего не угрожало, ты не покинешь свой хутун, я сам его обустрою, чтобы тебе в нем жилось лучше, а вечером я помогу тебе сесть, не слишком крепко сжимая твои руки, сам опущу твои ноги в тазик с горячей водой и добавлю туда свежего имбиря».
Я бы дорого заплатил за эти несколько слов, которые мне так никогда и не удалось ей сказать, я хотел бы купить себе речь, как другие покупают одежду, чтобы принарядиться и выйти в люди вечером. Я приписывал иным фразам чудесную власть завязывать, разрушать и менять отношения, но сам привык молчать и метался, как обезьяна в клетке, голося про себя. Никто меня не слышал, и я думал тогда о моей глухонемой бабушке, которую мне не довелось увидеть, – я лишь чисто случайно узнал ее историю… Ее заточение, следствие случившегося с ней еще в детстве рокового несчастья, переместилось в мое тело, вкралось в мой облик, и люди, встречая меня, думали, что я либо глух, либо держу дистанцию, близкую к надменности. А между тем это было лишь унылое одиночество, внутри которого я ждал, не торопя события, возможности выйти наружу. Рядом с суетливым весельчаком, каким был мой дядя, я выглядел еще более странно. Думаю, я производил впечатление аристократа, равнодушного к мирским делам, но тем более опасного, когда надо было торговаться.
В этом вскипании, свойственном стране, которая поднимала голову, высвобождая жизненную энергию, ту, что оттачивается боевыми искусствами, все было, стало быть, за то, чтобы я оставался в Пекине и продолжал помогать Шушу в его многочисленных предприятиях. Вместе с дядей, учитывая эти почти чудодейственные для нас обстоятельства, мы должны были быстро преуспеть, послужив нашей семье и нашей родине. Это было нам на роду написано.
К тому же у матери появились признаки усталости, осложнился ее диабет, и все это тревожило нас с дядей.
Какой же процесс запустился тогда в моей душе, что я отринул мой долг сына, племянника и патриота? Трудно объяснить, но я попробую описать это в двух словах. Я нашел в себе силы уехать, потому что испугался.
Я, конечно, мог бы сказать себе, что должен бежать, чтобы научиться находить слова, которых мне недоставало, потому что другая культура допускает другие интонации и даже другие мысли; я мог бы также сказать, что мне необходимо было сбросить свою раковину ребенка-мученика, вылупиться из нее, как бог Пань-гу [18] вылупился из яйца. Но это все надуманные доводы, постфактум оправдывающие мой отъезд, которого никто, даже я сам, до конца не понял. Честно говоря, я действительно думаю, что испугался и по этой, должен признать, довольно постыдной причине решил покинуть свою страну. Но с какой стати пугаться мира, внезапно открывающегося перед вами? Мира, в котором вам вдруг становится не так больно, не так холодно, не так серо жить? Я бежал от удовольствия, от положительных эмоций, слагающую и умножающую силу которых я постигал по мере работы с Шушу. Это удовольствие действовать, возбуждающее тебя с зари и удерживающее на ногах до поздней ночи, разливающееся в мозгу, стоит только подумать о планах, об удачах, о выгоде, обо всем, что прибывает и еще прибудет, наверняка! И я начал побаиваться воздействия моей повышенной активности на мое внутреннее равновесие, я начал побаиваться головокружения от успехов, которое само себя порождает и оправдывает, ведь надо же вносить вклад, самому становиться живой силой на благо общества. Я испугался действия, которое опьяняет, когда растет наша власть над временем и нам приходится чокаться за наши успехи. Я испугался действия, которое заставляет всем жертвовать и все забывать, потому что его стимулирует ощущение жизни.
Вот я и уехал, гонимый инстинктом, как животное, чувствующее близость западни, которую никто ему не готовил, но которая все же есть. Я нашел в себе мужество не слышать упреков всей моей семьи, хулы соседей и, главное, избегать взгляда дяди, который многому меня научил. Я должен был сопротивляться нашей собственной активности, потому что она, вопреки видимости и всякой логике, подтачивала меня.
Похожие книги на "Любовь, что медленно становится тобой", Кайоль Кристин
Кайоль Кристин читать все книги автора по порядку
Кайоль Кристин - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.