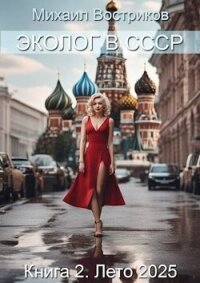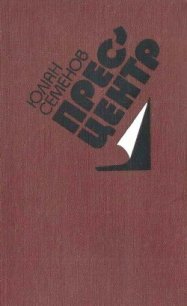Анатомия «кремлевского дела» - Красноперов Василий Макарович
Затем Дорошин перешел к компромату на Козырева, показав:
Козырев мне говорил, что выход из существующего положения он видит в устранении руководства ВКП(б). Я его понял так, что речь идет о том, что надо убрать Сталина… Фактически он меня наталкивал на террористический акт [340].
Признался Василий Григорьевич и в том, что при разговорах с Синелобовым создавал “обстановку злобы и ненависти в отношении т. Сталина”. Эти признания очень пригодились во время очередного допроса Козырева 1 марта 1935 года. А пока что взялись за Синелобовых. 24 февраля допросили Алексея Синелобова (протокола этого допроса Сталину не направляли), а 26 февраля допросили Клавдию Синелобову. Поскольку сам Алексей Синелобов признавался лишь в контрреволюционных разговорах, а от других арестованных военных показаний о терроре добиться пока не удалось, следователю Чертоку было поручено получить от Клавдии Ивановны необходимый компромат на брата. Пришлось действовать по чекистскому шаблону, и результат оказался не слишком внушительным, но шаблон на то и шаблон, что позволяет получить нужный результат при определенных обстоятельствах. Обстоятельства же заключались в том, что товарищ Сталин, когда ему это было выгодно, охотно принимал на веру шаблонную аргументацию. В случае отсутствия даже малейших признаков террористических намерений подследственного следователь вызывал на допрос кого‐нибудь из его подельников и спрашивал: не считает ли тот этого подследственного способным на террор? Так поступили и с Синелобовым. Черток поинтересовался у Клавдии, не считает ли она
своего брата Синелобова способным на активные антисоветские действия? [341]
Что в реальности сказала Клавдия, мы уже не узнаем, но в протоколе зафиксирован следующий ответ:
Да, считаю. Несмотря на то что мой брат Синелобов был членом ВКП(б) и работал в Кремле, он был резко антисоветски настроен. Во время своих разговоров с Гавриковым как он, так и Гавриков выявили себя как законченные белогвардейцы, питающие дикую злобу и ненависть как к Советской власти, так и к ея руководителям. Считаю, что как Гавриков, так и мой брат Синелобов (последний по своим личным качествам – человек злой и жестокий, с большой силой воли), – оба они способны на активные террористические действия [342].
Теперь можно было браться и за самого Синелобова. Первый раз, 31 января, его допрашивал Каган. Кто вел допрос 24 февраля, нам неизвестно, а 28 февраля он попал в руки следователю Дмитриеву [343]. Тот не стал долго мудрствовать и взял с места в карьер, огорошив Алексея Ивановича новостью, что следствию известны его террористические настроения. Синелобов, разумеется, с возмущением отверг это обвинение. Однако Дмитриев продолжал настаивать, доказывая Синелобову как дважды два четыре, что если тот клеветал на правительство и на Сталина, считал последнего диктатором и желал его устранения (в чем Алексей Иванович уже успел признаться), то не мог же он не задумываться над тем, какими методами может быть достигнуто это “устранение”. Синелобову оставалось лишь слабо отнекиваться, мол, он не думал об этом. Но, клевеща на партию, вы же разжигали злобу и ненависть к вождям, продолжал настаивать Дмитриев, то есть распространяли террористические настроения. По чьим указаниям вы это делали?
Синелобов попытался свалить вину на Дорошина с его “завещанием Ленина”, но тут следователь предъявил Алексею Ивановичу имевшийся у него на руках козырь – показания сестры. Синелобов попытался объявить их ложными, но это не удалось, и пришлось ему признать свои “контрреволюционные” беседы с Гавриковым (те самые, в которых Гавриков по простоте душевной не видел ничего предосудительного, считая, что коммунист должен придерживаться партийной линии только в официальной обстановке, где‐нибудь на партсобрании, а дома может говорить что угодно). Следователь усилил нажим. Выяснив, что Синелобов находился с сестрой в хороших отношениях, он исключил оговор с ее стороны и потребовал от Алексея Ивановича подтвердить все ее показания безоговорочно. Однако Синелобов неожиданно уперся и категорически отказался подтверждать какие‐либо террористические намерения. На этом допрос закончился, и следователю, не сумевшему добиться нужного результата, пришлось на следующий день заняться другим подследственным.
Чтобы ускорить получение показаний, Дмитриев обвинил В. И. Козырева, вновь вызванного 1 марта на допрос [344], в сокрытии своего социального происхождения. Оказывается, до войны 1914 года отец Василия Ивановича мог бы считаться кулаком (правда, уже по советским критериям), тогда как Василий Иванович всюду в анкетах писал, что происходит из семьи середняка. Получалось, что он обманывал партию, обманом же пролез в РККА, отсюда и глубокие корни его “контрреволюционности”. Обезоружив таким образом подследственного, Дмитриев постарался изобразить его целеустремленным врагом и проповедником террора; при этом он потрясал только что полученными показаниями Дорошина, в которых тот утверждал, будто Козырев “наталкивал” его на террористический акт. Однако Василий Иванович согласился признать лишь свое утверждение о том, что “выходом из создавшегося положения является изменение политики партии”, а отнюдь не террор. На том и закончили, а на следующий день следователи Гендин и Пассов еще раз допросили Гаврикова. Тот вновь признался в “двурушничестве” – дескать, публично говорил одно, а в частных беседах позволял себе критиковать политику партии. Из-за такого “раздвоения личности” и прочих жизненных неурядиц начал сильно выпивать на пару с Синелобовым. Когда следователи предъявили Ивану Демьяновичу показания Синелобовой о том, что Гавриков и ее брат Алексей “выявили себя как законченные белогвардейцы, питающие дикую злобу и ненависть как к Советской власти, так и к ея руководителям”, Гавриков заявил, что это ложь, а на партию он “клеветал” по пьяному делу [345]. Но все же под нажимом следователей он вынужден был признать, что Синелобов в результате частых “контрреволюционных” бесед за бутылкой водки “мог прийти к выводу о наличии у [Гаврикова] озлобленности в отношении партийного руководства” [346].
Вообще пока что допросы военных не приносили существенных результатов. Максимум, чего удалось от них добиться, – это признаний в ведении “контрреволюционных” и “клеветнических” бесед и сознательном “создании обстановки озлобленности” вокруг вождей партии. Подобные признания совсем недавно позволили осудить фигурантов дела “Московского центра”, но лишь ценой публичного отказа от обвинения их в непосредственном планировании и осуществлении террора. Этот результат явно не удовлетворял чекистскую верхушку, придумавшую дело о террористическом заговоре, за развитием которого теперь пристально следил Сталин. Требовалась иная фактура, и над ней еще предстояло как следует поработать.
42
Шестого марта на допрос был вызван недавно арестованный новый фигурант “кремлевского дела” – Михаил Кондратьевич Чернявский. Ему предстояло сыграть в деле ключевую роль и стать одним из двух обвиняемых, получивших от Военной коллегии Верховного суда СССР расстрельные приговоры. Представляется целесообразным детально рассмотреть биографию Чернявского, тем более что ему посвятила целую главу в своей книге The Spy Who Changed History исследовательница спецслужб из Кембриджского университета Светлана Лохова. Очерчивая жизненный путь Чернявского, Лохова пишет:
Он был родом из Мисупта, небольшой деревни в Мядельской волости Виленской губернии, которая ныне находится на территории Беларуси. Подростком Чернявский занимал крайне радикальные позиции в крестьянской политике, вступив в компартию лишь в марте 1920 года. В 1917 году он примкнул к левым эсерам, радикальной крестьянской партии, и стал активным членом ее террористического крыла. Левые эсеры одно время входили в коалицию с коммунистами и открыто проводили политику политических убийств для достижения своих целей. Вступив в левые эсеры, Чернявский познакомился с Яковом Фишманом, человеком, близким к руководству партии, который на всю жизнь сделался его наставником и обучил его методам убийств политических лидеров. Они оба входили в комитет, яростно выступавший против подписания мира с имперской Германией в Брест-Литовске и против присутствия кайзеровских войск, оккупировавших Украину. Левые эсеры развязали кампанию насилия, направленную на возобновление войны на Восточном фронте путем убийства мировых лидеров, включая президента Вудро Вильсона. Кампания началась с убийства кайзеровского посла графа Мирбаха в Москве в июле 1918 года. Фишман изготовил бомбы и организовал само убийство. Чернявский скрывался от последующих облав, вступив в Красную армию, где и служил непрерывно до своего ареста в июне 1935 года [347].
Похожие книги на "Связанные любовью", Рейли Кора
Рейли Кора читать все книги автора по порядку
Рейли Кора - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.