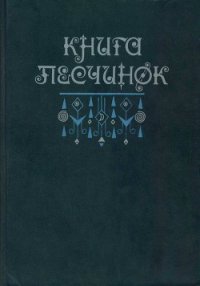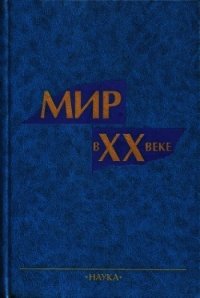Кровоточит зари распоротый живот.
Дымящаяся кровь стекает на холмы,
на плоский бледно-синий небосвод,
на оловянный блеск морской волны.
Утесы — как собранье мокрых спин,
у пульта вечер — странный дирижер.
Он мачты скрип навязчивый, как сплин,
вплел в плеск волны и в чаек хриплый хор.
Над морем сумрак поднял серый стяг
и горизонт замкнул стальным кольцом.
На горизонте сумрачном маяк
нам кажется пурпуровым цветком.
И водоросли — волосы наяд —
колышутся, подхвачены волной.
И горьковатый йода аромат
расплескивает в воздухе прибой.
Вот, как тюлени, тучи улеглись
и высыпали звезды, как роса.
Тяжелой поступью идет по скалам бриз
и заглушает склянок голоса.
Я — скиталец с угрюмой душою
возвратился в родные края
и увидел я знамя чужое
над тобою, отчизна моя.
Почему ты, кубинское знамя,
уступило родной небосклон?
Затуманились очи слезами,
словно вижу я тягостный сон.
Мне достался нерадостный жребий,
но я верил и верю в одно:
развеваться должно в нашем небе
наше знамя — и только оно.
По полям, что кладбищами стали,
мы за ним мчались в вихре атак.
И товарищей мы погребали,
завернув их в простреленный флаг.
Не сверкали на нем украшенья,
и не слышал он льстивых похвал,
но достоин бичей и презрения
тот, кто веру в него потерял.
Нас морили в темницах, но жалоб
не срывалось с искусанных губ,
знамя родины нас согревало
на чужбине, в холодном снегу.
Осеняла нам радость и муки
одинокая наша звезда, [152]
и наемника потные руки
не держали наш стяг никогда.
Где бы ни был я, родины знамя
гордо реяло в песнях моих,
и в изгнанье оно было с нами,
наполняя и душу и стих.
Пусть же солнце на вольном просторе
и над островом нашим родным
наше знамя на суше и море
освещает лучом золотым.
Если ветры враждебные, воя,
попытаются флаг наш сорвать,
из могил встанут наши герои
и сумеют его отстоять.
Вхожу в тебя, святой поток природы,
дай мне покой и сердце ободри,
дай сумеркам моим клочок зари,
чтоб с ним уйти в ребяческие годы.
От памяти моей отмой невзгоды
и борозды обид с нее сотри:
для ссадин, что кровоточат внутри,
твой поздний свет целительнее йода.
Как кротко ты и как безгрешно спишь,
и омывает снов твоих излуки
закатного сиянья благодать.
Как неоглядна даль! Какая тишь!
О, если бы душа имела руки,
чтоб море, горы и поля обнять.
Опять заря. И снова шум ветвей.
Стихи, роса и терпкий запах рани.
Забытое волнение, навей,
навей душе обман воспоминаний.
И горечи мне принеси чуть-чуть,
чтоб скуку пресноватую приправить.
Но ты молчишь. Ты не наполнишь грудь
былой тревогой. Что с собой лукавить!
И я молюсь, молюсь о той заре,
о том объятье — там, на пустыре,
о той дрожавшей на ветру косынке,
о мятой мальве, о дыханье трав,
о кратком счастье, что, со мной устав,
ушло навеки — вон по той тропинке.
Своей гранитной гармоничной плотью
скала нагая
взметнулась к бесконечности, в полете
изнемогая.
Зюйд гонит волны рать за ратью,
дробя их об утесы,
и хриплые ревет проклятья
под стон их тысячеголосый.
Как черный символ океанской
души, внезапные провалы
зияют на груди гигантской
меж радугой и гребнем вала.
Даль не прорежут альбатроса крылья,
и парус не мелькнет на водной круче,
не видно ни следа от киля,
ни тучи.
И лишь под шквалом ураганным
кипит свирепой круговертью
бой между жизнью — океаном —
и камнем — смертью.
Удары волн ударом встречным
превозмогая,
сама насмешка над быстротечным
скала нагая.
Проходит жизнь, и постепенно
жар чувств исходит в пепел серый,
а в сердце из песка и пены
слагаются аккорды «Мизерере».