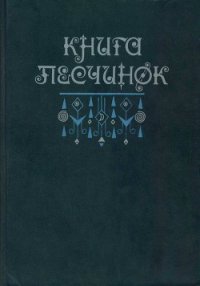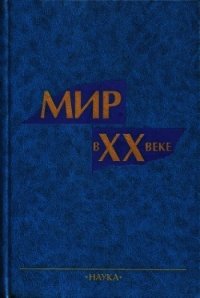С темного неба, как из ночлежки душной,
сонное и тупое,
смотрит лицо ее с миною злой и скучной
от перепоя.
По ней стосковались бары,
вакхово стадо млеет, —
сброд салютует дымом дрянной сигары
луне городских окраин, трущобной фее.
И та не в обиде — как дома в любой подворотне.
И по сердцу каждый бражник
луне городских окраин — бывалой сводне,
искусной в полночных шашнях.
Трущобный содом хохочет,
ликуют ловцы удачи;
луна воровская, кума непроглядной ночи,
о темных делах судачит.
А свет фонарей в тумане
сочится, как яд из ампул,
и плачет шарманка, — и тяжко толпу дурманит
таинственный вальс сомнамбул.
Но кратко веселье плебса, а гаснет фонарь последний —
я вот над трущобным мраком
куда-то на новый шабаш луна улетает ведьмой,
махнув помелом гулякам.
Ищет ночлег оборванец,
стихают шаги за дверями,
полночный патруль выправляет зигзаги пьяниц,
и мостовые стелятся пустырями.
И, грязный от слез и пудры, один лишь Пьерро с гитарой
слоняется, шут печальный, в ночи пустынной и душной,
спеша для луны исторгнуть какой-то куплетик старый
и никому не нужный.
Мама, румба, барабаны и труба!
Мамимба-барабан, мабомба-барабан!
Мама, румба, барабаны и труба!
Мабимба-барабан, мабомба-барабан!
Эту румбу пляшет черная Томаса!
Эту румбу пляшет Хосе Энкарнасьóн!
У Томасы ляжки заходили ходуном;
а у негра ноги — живые две пружины,
и живот пружинит, и, весь пружиня,
к ней на каблуках подходит он.
Каблуки-чаки-чаки-чараки́!
Чаки-чаки-чаки-чараки́!
Тугие ягодицы девчонки Томасы —
два огромных шара — вокруг оси незримой
в сумасшедшем ритме начали вращаться,
бросая дерзкий вызов дрожью сладострастной,
когда пошел в атаку Че Энкарнасьон;
у Че — марионетки — мускулы крепки,
весь дугой он выгнут, корпус откинут,
руки — недвижны, ноги — в работе,
волны равномерно сотрясают чресла,
и вперед он устремлен.
Продолжайте пляску-чече-пляску-пляску!
Продолжайте пляску-чече-пляску-пляску!
Продолжайте пляску-чече-пляску-пляску!
Черная Томаса дразнится упорно, —
ускользают бедра, подбородок вздернут, —
поднимает разом две руки атласных,
в их ладонях гладких — эбеновый затылок, —
предлагает груди: круглые гранаты
колыхнулись влево, колыхнулись вправо,
и на них глазеет Че Энкарнасьон.
Каблуки-чаки-чаки-чараки!
Чаки-чаки-чаки-чараки!
Негр неистово ринулся на приступ,
перед нею машет шелковым платком —
будь готова к бою, черная Томаса,
видишь, твой противник взбешен, разъярен!
«Стой, смуглянка!» — завывает смуглый.
(Из глотки — хрип, а глазшца — угли,
это дьявол или Че Энкарнасьон?)
Черная Томаса ловко увернулась,
«Нет!» — ему сказала и расхохоталась —
до чего ж обидный тон!
Прямо перед носом задом крутанула —
пусть он знает место, Хосе Энкарнасьон!
Мама, румба, барабаны и труба!
Мабимба-барабан, мабомба-барабан!
Взвизгивают флейты,
звякает марака [157],
трезвонит колокольчик,
грохочет барабан.
Приседает низко, почти касаясь пола,
в полуповороте Хосе Энкарнасьон.
И девочка Томаса расслабилась невольно,
и пахнет сельвой,
и пахнет полем,
и пахнет самкой,
и пахнет зверем,
и пахнет сельской глушью
и пыльным городским двором.
Головы танцоров — темных два кокоса,
на которых кто-то начертал известкой
сверху знак вопроса, тире — со всех сторон.
И два тела влажных — два кувшина черных,
И сияет каждый, пóтом окроплен.
Взвизгивают флейты,
звякает марака,
трезвонит колокольчик,
грохочет барабан.
Каблуки-чаки-чаки-чараки!
Чаки-чаки-чаки-чараки!
И дрожат танцоры в бешеном экстазе,
в пароксизме страсти Че Энкарнасьон,
больше не до шуток девочке Томасе,
барабан безумный изрыгает стон.
Пики-тики-пан, пики-тики-пан!
Пики-тики-пан! Пики-тики-пан!
Падает на землю девчонка Томаса,
падает на землю Хосе Энкарнасьон;
они в клубке едином завершают пляску,
надорвался в крике большой барабан,
кон-кон-кончилась румба, ко-мабó-бам-бам!
Па-ка, па-ка, па-ка-пам! Па-ка, па-ка-пам!
Пам! Пам!.. Пам…