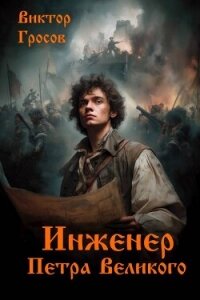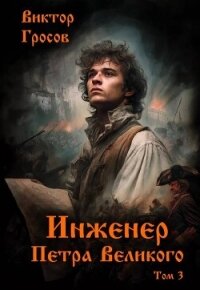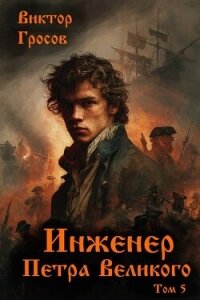Это была пытка. Время растянулось. Я полировал, останавливался, протирал, рассматривал под лупой. Снова. И снова. В какой-то момент мелькнула мысль: если бы сейчас вошел Оболенский и увидел меня в таком виде — грязного, трясущегося, бормочущего что-то себе под нос, — он бы вызвал экзорциста.
И вдруг я понял — все. Хватит. Интуиция. То самое чувство материала, которое приходит с десятилетиями опыта. Еще одно движение — и будет уже слишком.
Остановив станок, я взял чистый кусок оленьей замши и начал стирать остатки пасты. Поначалу поверхность была тусклой, маслянистой. Но с каждым движением она оживала.
И чудо произошло.
Границы исчезли. Металл и камень слились в единое, монолитное целое. Серебряный узор больше не выглядел чужеродным — он словно пророс из глубины камня, стал его частью. Малахит из просто зеленого стал глубоким, почти черным, с изумрудными всполохами узора, проступающими из бездонной глубины. Он стал зеркалом. Серебро засияло чистым платиновым блеском.
А алмазы…
Они взорвались. Каждый из сотни крошечных камней поймал скудный свет огарка и ответил россыпью радужных огней. Они стали звездами на ночном небе.
Шедевр был готов. М-да. А ведь за такую работу в XXI веке можно было бы маленькую африканскую страну купить. А здесь, если повезет, погладят по головке и не выпорют. Прогресс, однако.
Напряжение, державшее меня все эти недели, медленно отпускало. Сделав шаг назад, к своему стулу, я просто упал на него. Ноги отказали.
Я тупо глядел на творение своих рук. В голове — ни одной мысли. Ни радости, ни триумфа. Пустота. Я был выжат. Опустошен. До самого дна. Я отдал этому куску камня и металла все, что у меня было. И даже немного больше.
Последний день начался с непривычной тишины. Не выл станок, не звенел металл. Тело ломило, тупая боль в мышцах, переживших непосильную нагрузку.
На стирание следов войны ушло все утро. Сначала — баня. Горячая вода смывала саму память о неделях исступления. Я тер кожу, пытаясь отскрести въевшуюся под ногти черноту, она сидела там намертво, как клеймо. Затем пришло чистое свежее белье, оставленное Прошкой.
Преобразилась и мастерская: я убрал мусор, разложил инструменты, вымел пол. Но въевшийся в стены запах горелого масла и металла было уже не вытравить. В центре, на куске черного бархата, стояло мое творение. Накрыв его вторым куском ткани, я отступил. Готово.
В полдень явился Оболенский. Один. В парадном мундире. Вошел с маской холодной вежливости. Он ждал чего угодно: провала, посредственности, удачной подделки — и был готов ко всему. Видать не слабо нервничал. Неожиданно.
Остановившись в нескольких шагах от верстака, он скользнул взглядом по моему лицу — видать заметил темные круги под глазами, которые не смыть никакой водой, — и замер на черном бархатном холме.
— Ну? — произнес он одно слово.
Я не стал ничего говорить. Просто подошел и одним плавным движением сдернул бархат.
Солнечный луч, упавший из окна, ударил в малахит. И тот ответил глубоким, бархатным сиянием. Он поглотил свет, а затем вернул его изумрудными всполохами из самой своей глубины. Серебряный узор, лишенный границ, казался морозным рисунком, проступившим на камне. А сотни алмазов горели далеким, звездным огнем.
Князь замер. Маска треснула. На его лице отразилось сначала простое изумление, затем — восхищение ценителя.
Он медленно подошел как сапер к незнакомому механизму. Осторожно, двумя пальцами, коснулся гладкой, монолитной поверхности. Провел, пытаясь нащупать шов, зазор, малейший изъян. Не нашел.
— Скольких мастеров ты похоронил, создавая это? — полушутя спросил он тихо, не отрывая взгляда от камня. В голосе слышалось уважение.
— Один же, — хмыкнул я. — Конвой подтвердит, — добавил я указывая подбородком на охрану.
Он тоже хмыкнул продолжая рассматривать прибор. Я буквально вижу, как его мозг лихорадочно работает, пытаясь разложить чудо на составляющие, понять, как оно сделано.
И тогда я сделал свой последний ход.
Подойдя, я кончиком ногтя нажал на неприметную серебряную розетку в орнаменте. Раздался мягкий щелчок. Из малахитового основания, без малейшего зазора, плавно выдвинулся крошечный потайной ящичек для личной печати.
Оболенский рассмеялся. Коротко, резко, нервно. Он понял, что его переиграли. Не обманули, а именно переиграли — в интеллекте, в хитрости, в дерзости замысла.
— Дьявол… — выдохнул он, отсмеявшись. — Ты действительно дьявол.
Долго он стоял, глядя то на открытый ящичек, то на меня. Затем, словно приняв какое-то решение, выпрямился.
— Заверни, — сказал он деловым тоном. — Завтра я представлю это Ее Величеству.
Он подошел к верстаку и положил на него тяжелый кожаный кошель. Там что-то глухо звякнуло.
— Это, — он сделал паузу, подбирая слова, — за твое молчание о том, как это сделано. И за мою будущую головную боль. Я чувствую, ты мне ее еще доставишь.
Взяв ларец с шедевром, он, не говоря больше ни слова, развернулся и вышел.
Я остался один. Подошел к верстаку, взял тяжелый кошель. Развязал тесемку. Золотые монеты. Много. Целое состояние. Достаточно, чтобы купить домик на окраине, свободу и прожить остаток жизни в тихой безвестности.
Я усмехнулся.
Подойдя к окну, я взвесил кошель в руке. Нет, это будет первым взносом в войну, которую я только что объявил этому миру, этому времени, этим Дювалям и Оболенским. Войну за право иметь собственное имя.
Я посмотрел на свои руки. На въевшуюся под ногти грязь. На синий, расплющенный ноготь.
Так. А теперь можно подумать о том, чтобы купить себе нормальные сапоги. И, может быть, чего-нибудь еще. Теперь-то можно и в город выйти.
Ставьте лайки и подписывайтесь на цикл, чтобы не пропустить обновления. От количества