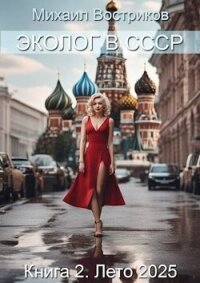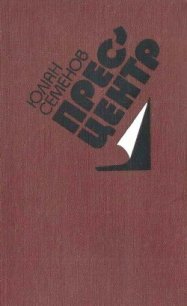Анатомия «кремлевского дела» - Красноперов Василий Макарович
Следователи предъявили Гейеру письмо, адресованное им Надежде Скаловой, из которого было видно, что Гейер “принимал участие в Белом движении”. Гейер был вынужден признаться, что скрывал от “органов советской власти” свое прошлое, и подробно рассказал обо всем том, о чем кратко упомянул Скалов во время допроса 4 апреля, добавив, что с 1920‐го по март 1923‐го он “был в составе дальневосточной народной революционной армии”. По словам Гейера, свое участие в гражданской войне на стороне белых он скрывал, чтобы “избегнуть пребывания на учете бывших белогвардейцев” [875]. В апреле 1923 года Гейер приехал в Москву по приглашению Скалова, чтобы стать заместителем заведующего учебной частью Института востоковедения (на странице 117 справочника “Вся Москва” за 1924 год фигурирует некий А. А. Гейер, работающий в Московском статистическом отделе и проживающий по адресу Трехпрудный пер., д. 11/13, кв. 222. В том же справочнике, на стр. 88, А. А. Гейер числится заместителем заведующего учебной частью Института востоковедения профессора В. К. Трутовского. Возможно, эти разноречивые данные отражают различные этапы трудового пути Гейера, т. к. Александр Александрович недолго руководил учебной частью). В ноябре 1923 года Скалов был снят с должности ректора, и Гейеру тоже пришлось покинуть теплое местечко в институте.
Допрос продолжался, и вскоре Гейер начал давать показания о Скалове, ничуть не расходившиеся с теми сведениями, которые уже были получены чекистами на предыдущих допросах Скалова и его родственников. Показал Гейер и о других участниках “группы Скалова” – Е. Мухановой, Л. Перельштейн, Н. Скаловой, А. Сидорове, В. Александрове, Г. Ивановой, заявив, будто все они – контрреволюционеры, а некоторые из них еще и высказывали террористические намерения. Чтобы покрепче пристегнуть Гейера к группе белогвардейцев, чекисты (игнорируя показания Скалова о разладе с Гейером в 1929 году) в протоколе допроса изобразили дружескую вечеринку (очевидно, по случаю переезда из Ленинграда академика Н. Н. Семенова, брата тогдашней жены Скалова) “контрреволюционным сборищем”:
В 1931 году на квартире у Сидорова собиралась группа белогвардейцев – я, Сидоров, Илья Сорокин, Скалов и академик Н. Н. Семенов. Эта встреча, во время которой мы обсуждали положение в стране, явилась толчком к оформлению нашей контрреволюционной деятельности. Мы считали, что проводимая партией коллективизация обречена на провал, что это должно решить вопрос и о существовании Советской власти. Сидоров тогда говорил, что все зло в Сталине, что от него зависит политика в стране, и высказывал при этом террористические настроения в отношении Сталина [876].
После этого в протоколе допроса Гейера появилась фраза, полностью соответствующая фантазиям чекистских “липачей”:
Террористически была также настроена Муханова. Она была больше всех озлоблена против Советской власти. По натуре она человек чрезвычайно экзальтированный, и я уверен, что в состоянии аффекта она могла пойти на террористический акт. Муханова вообще считала, что она должна была принести себя в жертву за страдания русского народа от ига большевиков [877].
Постарались чекисты под новым углом бросить тень и на Скалова: тот, по показаниям Гейера, часто ездил в Ленинград, беседовал там с Семеновым и интересовался у него разработками в области взрывчатых веществ, которыми Семенов якобы занимался. Учитывая его разговор с Мадьяром на Красной площади, утверждал Гейер,
Скалов интересовался взрывчатыми веществами, к которым имел отношение Семенов, – в террористических целях [878].
Смысл таких “заготовок” заключался в том, что чекисты на всякий случай “страховали себя по другой линии”.
В конце допроса пришлось Александру Александровичу признать и свою вину:
Я признаю себя виновным в том, что я разделял контрреволюционные взгляды остальных участников организации, был в курсе их намерений и был осведомлен о террористических настроениях отдельных участников организации (Скалов, Муханова, Сидоров) [879].
114
Осталось допросить мужа Надежды Скаловой Леонида Воронова, и дело Скалова можно было “ликвидировать”. 22 апреля этот допрос провел следователь Сидоров. 36‐летний Воронов, художник-плакатист Главного управления кинопромышленности, оказался давним врагом советской власти, принимавшим участие в вооруженной борьбе с ней еще в октябре 1917 года, будучи кадетом Николаевского инженерного училища в Петрограде. Свое участие в этой борьбе Воронов пытался оправдать “психологией”, которая, дескать, “исключала возможность уклониться от участия” в борьбе, которую он вынужден был вести “без внутренней убежденности в ее необходимости”. Но на следователя Сидорова такие аргументы не подействовали, и он обвинил Воронова в сокрытии им указанных фактов биографии. Воронов продолжал оправдываться:
Я боялся, что моей “безыдейности” советская общественность не поверит. Я чувствовал, что у меня нет фактов, которыми я мог бы это доказать, и боялся, что буду скомпрометирован. Между тем я человек лояльный [880].
Следователь лишь усмехнулся:
В одном из ваших писем, отобранных при обыске у вашей жены Н. Скаловой, вы пишете: “Социализм – вещь настолько серьезная, что кроме продовольственных карточек с ним не уживется ничего”. Это свидетельствует о вашей, как вы говорите, “лояльности”? [881]
Напрасно Воронов пытался убедить следователя, что данная фраза для него “нехарактерна”. Сидоров привел ему показания жены о нем как о “человеке контрреволюционных убеждений” и о “ряде бесед контрреволюционного характера”, в которых Воронов принимал участие. После этого Воронов был вынужден признать свои антисоветские настроения, а также дать показания об антисоветских взглядах Е. К. Мухановой, Л. И. Перельштейн, А. И. Сидорова и своей жены Надежды. Правда, после этого уперся, и показаний о террористических намерениях Мухановой и Сидорова следователь получить от него так и не смог. За это чекисты жестоко отомстили ему. Несмотря на то что никаких показаний о его “террористических намерениях” на следствии получено не было, ему предъявили обвинение в том числе и по статье 58.8, а дело о нем передали на Военную коллегию Верховного суда. ВКВС приговорила его к шести годам политизолятора, после чего вместе со Скаловым и другими подельниками он был этапирован в Верхнеуральск.
115
Параллельно Люшков, Каган и Сидоров плотно работали с библиотекаршей Зинаидой Давыдовой. Давыдова отказывалась признавать прямое участие в “террористической организации” Натальи Бураго и Клавдии Синелобовой, хотя следователям еще 7 марта удалось получить у нее показания об участии Бураго в “контрреволюционных беседах”. Теперь чекистам нужно было, чтобы Давыдова прямо заявила о том, что Наталья Бураго и Клавдия Синелобова, а заодно и Лёна Раевская были террористками. Тем более что от самой Бураго было получено показание об участии в “террористической группе” на допросе 17 марта (а вот от Синелобовой добиться признаний в терроризме не получилось). Но 15 апреля следователю Сидорову этот номер не удался. Давыдова держалась той линии, что из числа заговорщиков, готовивших убийство Сталина, она знает лишь Розенфельд и Муханову. Раевскую и Синелобову Давыдова, по ее словам, знала мало, а что касается Бураго, то она якобы участвовала лишь в тех “контрреволюционных” беседах, где речь о терроре не шла. Попутно выяснилось, что во время допроса 7 марта допрашивавшая Давыдову верхушка СПО совершила оплошность. Судя по протоколу, от Давыдовой добились нужных признаний, но забыли закрепить их однозначной формулировкой о ее принадлежности к террористической группе. Теперь, 16 апреля, пришлось оформлять еще один протокол, в котором следователи, чтобы скрыть свою оплошность, констатировали, что на допросе 7 марта Давыдова якобы отрицала свое участие в “террористической” группе. После этого в протоколе появилась нужная формулировка:
Похожие книги на "Связанные любовью", Рейли Кора
Рейли Кора читать все книги автора по порядку
Рейли Кора - все книги автора в одном месте читать по порядку полные версии на сайте онлайн библиотеки mir-knigi.info.